М. Д. САБИНИНА
МУСОРГСКИЙ
1
Мусоргский – одна из самых могучих, неповторимо своеобразных фигур мирового музыкального искусства XIX века. Известно что подлинные масштабы вклада гениальных художников-новаторов, как правило, осознаются лишь в исторической ретроспективе и оценки их подвижны. Но взаимоотношения Мусоргского со временем окрашены особой напряженностью, динамикой и драматизмом.
Драматический парадокс его судьбы – непонятость эпохой, чьи передовые революционно-демократические идеалы он воплотил как никто другой из великих композиторов. Подобного проникновения в сердцевину жгучих социальных и нравственно-философских вопросов времени достигали только гиганты отечественной литературы, в музыке же оно явилось беспрецедентным. И если негодование музыкантов академического и консервативно-охранительного толка вызывали "неграмотность", странные "корявости" стиля, то основной причиной враждебности власть имущей касты был гражданственный, бунтарский пафос его искусства, который, с нашей сегодняшней точки зрения, могли бы по достоинству оценить слои русской интеллигенции, воспитанной на статьях Белинского и Добролюбова, зачитывавшейся Чернышевским и Герценом, Тургеневым и Толстым, Некрасовым и Достоевским. Однако подавляющее большинство крупных писателей, журналистов, общественных деятелей не "расслышало" Мусоргского, не разглядело в нем своего союзника и собрата. Препятствовали, впрочем, и обстоятельства чисто практического порядка: кроме "Бориса Годунова", при жизни автора немногое звучало в публичных концертах и львиная доля сочинений оставалась знакомой довольно узкому кругу друзей, гостей и участников музыкальных собраний в домах Даргомыжского, Кюи, семейства Пургольд, Стасовых, Л. И. Шестаковой и некоторых других.
Положение начинает меняться уже после смерти композитора. Благодаря выходу из печати ряда рукописей, отредактированных Римским-Корсаковым, теперь на концертных эстрадах столиц, провинциальных культурных центров и за границей все чаще и чаще исполняются "Ночь на Лысой горе", "Картинки с выставки", фрагменты опер. В 1886 году петербургский Музыкально-драматический кружок впервые показал "Хованщину", двумя годами спустя московский Большой театр – "Бориса Годунова", причем пресса отметила неуклонно возрастающий успех этого спектакля. Постановки "Хованщины" и "Бориса" в Частной опере Мамонтова с Шаляпиным в главных ролях (1897 и 1898), обеих опер в ходе Русских сезонов Дягилева ("Борис" – 1908, "Хованщина" – 1913); талантливая пропаганда камерного вокального наследия композитора певицей М. А. Олениной д'Альгейм, в 1908 году основавшей Дом песни, который по праву окрестили "домом Мусоргского"; "Женитьба", исполненная силами Кружка любителей русской музыки в Москве и в петербургском концерте Вечеров современной музыки (декабрь 1908 и март 1909 года) – таковы отдельные вехи "открытия" некогда непризнанного гения.
В XX столетии представители разных художественных направлений и национальных школ по-разному открывают и истолковывают Мусоргского. Напомним лишь о нескольких примерах. Так, Дебюсси и Равеля, объявивших его своим учителем, прежде всего увлекли языковые, ладогармонические и декламационные новации, рассыпанные в "Борисе Годунове", "Детской", цикле "Без солнца", а русские символисты в 1911 году были потрясены, обнаружив в "Хованщине" совпадение с собственными духовно-философскими устремлениями. Молодой Прокофьев подхватил принципы омузыкаливания прозаического текста ("Гадкий утенок", "Игрок"), элементы живописной звукоизобразительности, скромную целомудренную теплоту островков лирического мелоса, национально-почвенную сказочность, то жуткую, угрожающую, то обаятельно-хрупкую. Шостакович всю сферу народного, фольклорного воспринимает как бы через Мусоргского, пользуется типично "мусоргианскими" попевками, ритмоинтонациями, воплощая образы народной скорби и гнева или горький смех сквозь слезы маленького, униженного человека. Многим обязаны Мусоргскому и такой выдающийся композитор, как Свиридов, и группа советских музыкантов поколения 60-х годов, именовавшихся "новой фольклорной волной".
Итак, с одной стороны – прижизненная непонятость, с другой – колоссальный диапазон посмертных влияний, неисчерпаемость предпосылок к актуализации. Композитор, без которого для нас немыслима русская культура третьей четверти прошлого столетия, но которую он реально почти не всколыхнул, удивительно гибко вписывается в культурные контексты позднейших периодов, порой оборачиваясь неожиданными гранями. Дело в том, что Мусоргский шел дорогой поиска новой образности и новых средств музыкальной выразительности, отвечающих наиболее прогрессивным тенденциям своего времени, – небывалых, ранее никем не опробованных; находил формы и средства столь оригинальные, что секреты их поныне далеко не до конца расшифрованы наукой, несмотря на внушительный, с каждым годом пополняемый исследованиями теоретико-аналитическими и источниковедческими объем мусоргианы.
Новые способы художественного видения мира обычно созревают медленно, исподволь, иногда еще медленнее вырабатывается адекватное им восприятие, особенно трудно – музыкальное. Мусоргский предпринял свою музыкальную революцию немедля, каких-либо уступок господствующим вкусам, не считаясь с установками слухового восприятия современников. Отсюда и непонятость, запоздалое признание: то, что современникам (включая близких товарищей-кучкистов) казалось результатом слабой профессиональной техники, "неграмотностями", было поразительно смелым прорывом в будущее.
Искусство Мусоргского – плоть от плоти вершинных завоеваний русского критического реализма. Это бесспорная аксиома. Но, подобно всем великим художникам, Мусоргский не вместим в рамки одного течения (как не вместимы ни Достоевский, ни Лев Толстой, например). Если в литературе границы понятия "критический реализм" довольно расплывчаты, попытки его прямого переноса на русскую музыку часто влекли за собой некие натяжки и Мусоргского целиком "вписывали" туда преимущественно благодаря обилию мотивов социально-обличительных, персонажей и ситуаций, излюбленных литераторами, поэтами и живописцами направления критико-обличительного, сюжетному родству с жанрово-бытовыми полотнами передвижников1. Мусоргскому тесно в такой – да и всякой иной! – схеме, параллель с передвижниками чересчур узка. И не случайно некоторые советские авторы 20 – 40-х годов, варьировавшие стасовскую версию, выводили его "генеалогию" в основном из сатирических романсов Даргомыжского, затушевывая роль традиций Глинки и принижая значение позднего периода, циклов "Без солнца" и "Песни и пляски смерти", оперы "Хованщина".
Устои идейно-эстетического кредо Мусоргского совпадают или перекликаются с заветами Белинского, Добролюбова, Чернышевского, а программа творческая непосредственно продиктована его гражданскими и нравственными убеждениями. Он хочет громко, "во всю ширь русских полян" сказать слово правды об окружающей, жестоко неправедной действительности. Но "художественная правда не терпит предвзятых форм"2 (курсив мой. – М. С.), стало быть, необходимо сломать формы традиционно укоренившиеся, окостенелые. Будто вторя Чернышевскому, отвергает красоту чистую, самодовлеющую: "Изображение одной красоты, в материальном ее значении, – грубое ребячество, детский возраст искусства"3 (курсив мой. – М. С.). Впрочем, обязательным условием правдивости он считает художественность; в знаменитом, часто цитируемом письме к Л. И. Шестаковой он подчеркивает, что в "Женитьбе" музыка его "должна быть художественным воспроизведением человеческой речи во всех тончайших изгибах ее, т. е. звуки человеческой речи, как наружные проявления мысли и чувства, должны… сделаться музыкой правдивой, точной, но художественной, высокохудожественной"4. Требование художественности – пункт в принципе очень важный, особенно на фоне распространенного тогда крена к утилитаризму: ведь подчинение искусства задаче воспроизведения жизни проповедовал Чернышевский, сквозил подобный подход в народнической поэзии и прозе. Мусоргский даже в молодом полемическом азарте не мог принять прагматического отрицания художественно прекрасного, пожертвовать духовной красотой пользе, этому кумиру героев типа тургеневского Базарова, хотя принимал и разделял тезис главенства реального. "Жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы ни была солона… вот моя закваска, вот чего хочу и вот в чем боялся бы промахнуться"5. Он часто и с присущей ему пылкостью, цветистостью слога, твердит о святом долге правдиво изображать народ, жизнь народную. "…Народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем, пью – мерещится мне он, он один цельный, большой неподкрашенный и без сусального. И какое страшное (воистину) богатство народной речи для музыкального типа, пока не всю Русию исколоворотили чугунки! Какая неистощимая (пока, опять-таки) руда для хватки всего настоящего жизнь русского народа!" 6.
Мусоргский стремится будить совестливое, сочувственное отношение к слабым, обиженным и угнетенным, разоблачать пороки существующего строя. Тех, кто ретиво оберегал якобы исконное право музыки игнорировать уродливые явления действительности, – осыпает насмешками, иронизирует по адресу "мусикантов", которые "только разнообразием гармонии пробавляются, да техническими особенностями промышляют"7. Он искренне завидует живописцам, прорвавшимся к настоящей народной жизни, восторгаясь Репиным ("коренником", как прозвал его В. В. Стасов, считавший своей "тройкой" Мусоргского, Репина и Антокольского). «Отчего, скажите, когда я слышу беседу юных художников – живописцев или скульпторов, не исключая даже монументального Миши (Ц. О. Микешина. – М. С.), я могу следить за складом их мозгов, за их мыслями, целями и редко слышу о технике – разве в случае необходимости. Отчего, не говорите, когда я слушаю нашу музыкальную братию, я редко слышу живую мысль, а все больше школьную скамью – технику и музыкальные вокабулы? …Отчего "Иваны" (IV и III) и особенно "Ярослав" Антокольского, отчего "Бурлаки" Репина …золотушный мальчишка в "Птицелове" Перова и первая пара в его же "Охотниках", а также… "Крестный ход в деревне" живут, так живут, что познакомишься и покажется: вас-то мне и хотелось видеть. Отчего же все, что сделано в новейшей музыке, при превосходных качествах сделанного, не живет так…»8 Цензурным запретом песни "Семинарист" он не столько огорчен, сколько горд: по его мнению, запрет этот показывает, что "из соловьев, кущей лесных и лунных воздыхателей музыканты становятся членами человеческих сообществ". И добавляет – "если бы всего меня запретили, я не перестал бы долбить камень, пока бы из сил не выбился"9.
Мировоззрение Мусоргского складывалось в период, когда центральной, узловой проблемой была отмена крепостничества, на ней проверялись гражданские и нравственные позиции каждого образованного человека. Тогда волна общественного подъема, пафос надежд сплотили лучшие умы России, объединили лагеря славянофилов и западников. Надежды вскоре угасли. Обманутая реформой деревня (включая села Псковской губернии, где находились земли Мусоргских) волновалась, бунтовала, правительство отвечало свирепыми репрессиями; непокорных свободолюбцев-интеллигентов десятками арестовывали и ссылали, опасные с точки зрения полицейской цензуры органы печати закрывали. Подъем сменился упадком, кризисом, и Достоевский назовет 70-е годы годами катастрофического духовного разъединения. Исследователь творчества Достоевского пишет: "К началу 80-х годов почти все зародившиеся ранее течения русской общественной мысли выявили себя с достаточной полнотой… Богатое наследство 40-х и 60-х годов было в основном исчерпано: наследники еще спорили о деталях, но не знали, как соединить теорию с неподдающейся жизнью. Ни одно из идейных устремлений предыдущих десятилетий не сумело показать своего права на бесспорный общественный приоритет; ни одна сила, выступившая на духовном поприще, не смогла утвердить себя в сфере практических осуществлений" (36, 513).
Такова смутная политическая атмосфера момента, когда жизнь обоих титанов, писателя и композитора, близилась к концу. Не оттого ли попытки сколько-нибудь четко определить политические взгляды Мусоргского (особенно когда речь заходит о "Хованщине") остаются малопродуктивными? Ясной политической платформы он, вероятно, не имел, как не имело ее большинство великих писателей, "властителей дум", политические воззрения которых могли быть туманными, противоречивыми, а творения голосом и зеркалом времени. Нельзя требовать ясности от музыканта эпохи мучительного разброда, натиска реакции, вынуждавших часть деятелей сгибаться, предавать недавние либеральные идеалы, погрузиться в апатию, лево-радикальную часть – видеть единственное спасение в терроре. Сознательным революционером в политике Мусоргский, разумеется, не был никогда, террор несовместим с его моралью, но до последних лет он хранил боевой темперамент демократа-шестидесятника.
На рубеже 60-х годов ситуация еще была иной. В ту пору антикрепостнические настроения захватили многих людей (включая умеренных либералов), многие понимали тяготы, обрушившиеся на деревню в результате куцей, половинчатой реформы, которая, перефразируя знаменитые строки Некрасова, ударила одним концом по барину, другим по мужику. Все симпатии Мусоргского принадлежат крестьянству. Посетив родной Торопецкий уезд, он спешит поделиться впечатлениями с Балакиревым: "…крестьяне гораздо способнее помещиков к порядку самоуправления – на сходках они ведут дело прямо к цели и по-своему дельно обсуждают свои интересы; а помещики на съездах бранятся, вламываются в амбицию, – цель же съезда и дело уходят в сторону. Это факт утешительный, потому: нашему козырю в масть"10. Досыта надышавшись "ретирадной" атмосферой провинциального дворянства, негодует: "Что за плантаторы!.. А туда же толкуют об утраченных правах"11.
Ощущение кровной, органической связи с простым народом было у Мусоргского необычайно острым. Старший брат Филарет рассказывает, что Модест "всегда относился ко всему народному и крестьянскому с особенной любовью", не без оттенка холодного неодобрения заключая фразу – "и считал русского мужика настоящим человеком" (247, 30). Филарету Петровичу явно не хочется вспоминать то, о чем композитор никогда не забывал: их отец, Петр Алексеевич, прижит от крепостной девушки и получил дворянство лишь взрослым, после того как дед сочетался с ней законным браком. Быть может, и повышенно ранимая отзывчивость к бедствиям народа, и абсолютно естественное владение простонародным жаргонным говором, нередко употребляемым и в творчестве, и в письмах (иногда вперебивку с естественнейшей же стилизацией старинного канцелярского и церковного слога), не в последнюю очередь обусловлены его "смешанным" происхождением, которого он ничуть не стыдится. Наоборот, стыдится и презирает свою отупляющую казенную чиновничью службу. "…Это все моя бабка и я виноваты в такой бюрократически-мужицкой форме речи, ибо какого проку ждать от чиновника, явившегося, по крови, чрез соединение крепостной с аристократом-помещиком? Последнего всегда будет тянуть к чиновнику в приказную избу… только разве такой чиновник хода не возымеет – крепостная помешает на благо россиянам"12.
Приказная изба для него – олицетворение мерзостей российского самодержавия, живучих, несмотря на внешние, поверхностные перемены. Тему эту он подробно развивает в послании Стасову, приступая к работе над "Хованщиной": «Черноземная сила проявится, когда до самого днища ковырнешь. Ковырнуть чернозем можно орудием состава ему постороннего. И ковырнули же конце XVII-ro Русь-матушку таким орудием, что и не распознала сразу, чем ковыряют, и, как чернозем, раздалась и дыхать стала. Вот и восприяла сердечная разных действительно и тайно статских советников и не дали ей, многострадальной, опомниться и подумать: "куда прет?" Сказнили неведущих и смятенных: сила! А приказная изба все живет и сыск тот же, что и за приказом; только время не то: действительно и тайно статские мешают чернозему дыхать. Прошедшее в настоящем – вот моя задача. "Ушли вперед!" – врешь, "там же"! Бумага, книга ушла – мы там же. Пока народ не может проверить воочию, что из него стряпают, пока не захочет сам, чтобы то или иное с ним состряпалось, – там же! Всякие благодетели горазды прославиться, документами закрепить препрославление, а народ стонет, а чтобы не стонать, лих упивается и пуще стонет: там же!»13.
Мотив стона, утешения горьким беспробудным пьянством, как известно, пронизывает гражданские стихи Некрасова и поэтов народнического толка. Музыка обращалась к ним редко – несколько романсов Алябьева конца 40-х годов на тексты Огарева ("Кабак", "Изба"), городских вокальных сценок позднего Даргомыжского; Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков предпочитают поэзию, не опускающуюся до низменных, обыденных реалий. Для Мусоргского не существует предметов чересчур низких, напротив, он тянется к таковым – ему надобна неприкрашенная правда, степень же художественности зависит не от предмета, а от подхода, отношения творца. (Вспомним письмо к Л. И. Шестаковой о цели, поставленной им в сугубо прозаической "Женитьбе"!) Но укоряли его как раз в недостатке (либо отсутствии!) художественности. Даже Римский-Корсаков, как никто иной изучивший наследие композитора в процессе редактирования его произведении начиная с "Хованщины", на склоне лет заявил, будто бы Мусоргский "втоптал в грязь" идеальную сторону своего таланта, представительницей которой он считал романс "Ночь"14. Слишком далеки были критерии "идеального", истинно художественного, которые исповедывали искушенный мастер-классик и неуемный новатор, опрокидывавший классические каноны музыкально прекрасного…
Жизнеповедением и жизневосприятием дворянин Мусоргский – скорее интеллигент-разночинец. Квалифицировать его как "идеалиста-народника", "кающегося дворянина", сознававшего утрату своим классом почвы под ногами и стремившегося загладить свою вину перед народом (точка зрения, бытовавшая в советских исследованиях 20-х – начала 30-х годов), было данью вульгарно-социологическому методу, еще господствовавшему в исторической науке и искусствоведении. Девятнадцатилетним юношей Мусоргский, не колеблясь, оставил полк, порвал с аристократической гвардейской средой, скромными доходами с фамильных имений доверил распоряжаться брату (по рассказу А. Н. Молас, он якобы подарил ему отцовское имение, говоря: "Брат женат, у него дети, а я никогда не женюсь и могу сам себе пробить дорогу" – см. 194, 142), вечно страдал безденежьем и бездомностью. То есть сознательно обрек себя на судьбу, очень похожую на судьбы многих талантливых русских самородков, выходцев из мещан, рано загубленных нищетой и спившихся, как, например, Н. Помяловский, Глеб и Николай Успенские, Ф. Решетников.
Перечисляя в своей "Автобиографической записке" тех, кто смолоду возбудил его "мозговую деятельность", придал ей "серьезное, строго научное направление", вдохновил на создание "музыкальных композиций из народной жизни", Мусоргский назовет В. И. Ламанского, Н. И. Костомарова, К. Д. Кавелина и В. В. Никольского, И. С. Тургенева, Д. В. Григоровича, А. Ф. Писемского и Т. Г.Шевченко15. Ряд лиц, политически особо "неблагонадежных", полную вероятность контактов с которыми и знакомства с их трудами доказали М. С. Пекелис, С. И. Шлифштейн, М. П. Рахманова, в этом перечне отсутствует: так, не упомянуты имена погибших в ссылке крупного историка Афанасия Щапова, фольклориста Ивана Худякова – участника каракозовского покушения, этнографа Ивана Прыжова, замешанного в нечаевском деле. Между тем в "Борисе Годунове" использован текст песни "Про Казань" из сборника Худякова; "История кабаков в России" Прыжова была опубликована в 1868 году (год начала работы над "Борисом"), его же "Нищие на святой Руси" – в 1862 году, И Худяков, и Прыжов, и Щапов, и некоторые другие, например П. Якушкин, рассматривали русские кабаки как очаги бунтарства, заговоров – композитор, видимо, разделял их точку зрения, откликнувшись фигурами беглых монахов-пропойц Варлаама и Мисаила. Во всяком случае, установки этих выдающихся "народознатцев" помогают уяснить идею картины "Под Кромами": конечно, не стихия разнузданной черни, обуянной грубыми инстинктами, а исторически неизбежная, пусть и бесплодная, слепая вспышка народной ярости. (Кстати, песня "То не ястреб совыкался", использованная в сцене глумления над боярином, была записана Балакиревым от П. Якушкина.)
Но и упомянутых в Записке фамилий довольно, чтобы привести в замешательство ревнителей строгого размежевания идейно-политических лагерей. Ведь здесь бок о бок названы славист В. И. Ламанский и "западник" Тургенев, представитель официальной "государственной" школы К. Д. Кавелин и украинский патриот-федералист Н. И. Костомаров, в 1871 году опубликовавший работу "Личности Смутного времени", раскритикованную С. Соловьевым за апологию "разбойников"; пламенный демократ Тарас Шевченко, умеренно-либеральный Григорович и филолог-пушкинист В. В. Никольский – близкий друг композитора, тот самый "дяинька", который посоветовал взять канвой оперы трагедию Пушкина, а потом – добавить к "Борису" картину народного мятежа.
Соседство это и впрямь может показаться несколько странным, если не принять во внимание исключительную независимость мышления Мусоргского, способность свободно преломлять импульсы, почерпнутые в массе источников, как бы в обход партийно-групповой ориентации авторов. Д. В. Стасов "не раз сообщал нам, – рассказывает А. Н. Римский-Корсаков, – что из всех русских композиторов Мусоргский особенно отличался любознательностью, начитанностью и живым интересом ко всем отраслям знания: читал и по истории, и по естественным наукам, и по астрономии, по литературам иностранным, не говоря о русской: и потому беседы с ним были необыкновенно интересны и содержательны, при крайней своеобразности его… мыслей и оригинальности отношения к прочитанному и ко всем явлениям жизни" (196, 234). Сам Дмитрий Васильевич был широко образованным юристом, музыкально-общественным деятелем (одним из учредителей РМО и основателей Петербургской консерватории), оценка которого вполне серьезна и объективна; принципиально важна подчеркнутая им крайняя оригинальность взглядов Мусоргского. Действительно, смыкаясь со славянофилами и почвенниками, например, в критике петровских реформ, Мусоргский чрезвычайно далек от славянофильской умиленной идеализации старины, а равно далек и от "жалостливого" народнического сентиментализма, хотя инстинкт сострадания у него, пожалуй, мощнее, пронзительнее, чем у кого бы то ни было среди художников-современников (кроме Достоевского!). Он радостно, с юмором наблюдает колоритные народные характеры: «…извлек аппетитные экземпляры. Один мужик – сколок Антония в шекспировском "Цезаре" – когда Антоний говорит речь на форуме над трупом Цезаря. Очень умный и оригинально-ехидный мужик. Все сие мне пригодится, а бабьи экземпляры – просто клад. У меня всегда так: я вот запримечу кой-каких народов, а потом при случае, и тисну. А нам потеха!» 16
Девиз творца "Бориса Годунова" и "Хованщины" – прошедшее в настояшем. Всматриваясь в трагические коллизии прошлого, Мусоргский судом высшей нравственности судит и прошлое, и настоящее, провидит чреватое неслыханными потрясениями будущее родины. Гениальный психолог, он пристально анализирует эмоционально-психологические конфликты, мотивы поступков своих героев; знаток истории, он верен ее фактам, ее духу. Академик Лихачев выдвинул мудрое и смелое определение: "Мусоргский – величайший и далеко не раскрытый еще мыслитель, в частности исторической мысли" (179, 257).
Не случаен выбор эпох переломных, в ту пору вообще приковывавших внимание историков, писателей, драматургов. В "Борисе Годунове" это преддверие и начало Смуты, крах царя-детоубийцы, мятеж голодного бродячего люда, готового как избавителя приветствовать польского ставленника Лжедимитрия. В "Хованщине" – кровавая полоса стрелецких бунтов, раскольничьи самосожжения, борьба за власть вокруг юного Петра, который победит, чтобы беспощадно "ковырнуть" Русь, но и луч надежды, мечта о Рассвете над исстрадавшейся страной. Известен проект оперы "Пугачевщина", для нее понемногу припасались фольклорные материалы17. «По нашему убеждению, работая над второй редакцией ("Бориса" – М. С.), Мусоргский уже держал в уме дальнейшее развитие прецедента Смутного времени… – восстание Разина, стрелецкие бунты, раскол и эпидемию самозванчества, наконец, крестьянские волнения своего времени»,– пишет М. Рахманова (217, 78). Следовательно, "Хованщина" была вторым, а "Пугачевщина" явилась бы заключительным звеном грандиозной оперной трилогии.
Многолетние усилия советских ученых привести в систему политические воззрения Мусоргского на основе его словесных высказываний наталкиваются на весьма существенные помехи. С одной стороны, не хватает документальных данных (так, не разысканы письма к М. М. Антокольскому, О. А. и А. Я. Петровым, Т. И. Филиппову, А. С. Танееву, часть писем к М. А. Балакиреву; исчезла вся переписка с Н. П. Опочининой, вероятно, уничтоженная самими корреспондентами), а в уцелевшей эпистолярии он очень скупо касается вопросов собственно политики. С другой стороны, высказывания его бывают почти парадоксально разноречивы. Биографы давно констатировали некую приноровленность к настроениям адресата, заметную, например, по письмам Балакиреву 1867 года, где есть и ура-патриотические пассажи, и выпады против поляков, евреев и прочих "чужеземцев", неприятно диссонирующие с обликом гуманиста, демократа, которому ненавистны любые формы угнетения. Письма молодому Голенищеву-Кутузову – тогда еще либерально настроенному – вопрос об опасности обуржуазивания для русской культуры: "Если не произойдет громкого переворота в складе европейской жизни, буфф вступит в легальную связь с канканом и задушит nous autres [нас остальных]. Способ легкой наживы и, конечно, столь же легкого разорении (биржа) очень родственно уживается с способом легкого сочинительства (буфф) и легкого разврата (канкан)… Не знаю, что хуже обезображивает: гашиш, опий, водка или алчность к денежной наживе?" 18. Новое письмо еще ярче свидетельствует об остром социальном критицизме, здесь композитор возмущается царящей вокруг пустой, мелочной шумихой, сетует на "всеобщее безумие при безденежье; всеобщее всезнание при невежестве; возвышения уровня публичной массы с каким-то правом на что-то при бесправии…"19
Душевная организация Мусоргского исключительно сложна, и Мусоргского-художника не понять вне контрастов его человеческой натуры.
Он щедро расточает пылкую любовь на людей, у которых находит толику тепла, заботы, даже если они и не платят ему ответной привязанностью, – и довольно долго питает почему-либо возникшую, слабо мотивированную вражду (к Антону Рубинштейну, РМО и т. д.). До самоуничижения застенчивый, самокритичный – и гордый, непреклонный; поддается влиянию другой сильной индивидуальности, Балакирева например, – и упрямо защищает собственную правоту перед тем же Балакиревым. Порою вспыльчивый, категоричный – и необыкновенно мягкий, деликатный20. Рано уверовал в свою художническую миссию (иначе не бросил бы военную службу девятнадцати лет, когда в его талант еще никто не верил!), но с юности страдал приступами депрессии, черной меланхолии. Нередко кается в лени, пассивности, однако умеет трудиться круглыми сутками: "Ночь на Лысой горе" набело, в партитуре, написана за 12 дней. Искренний, по-детски непосредственный – потому так изумительно тонко чувствовал он мир и психику ребенка! – и крайне скрытный, замкнутый во всем, что касается его личных интимных переживаний. Накануне тяжелой нервной болезни, той, которая в Записке для Л. И. Шестаковой датирована летом 1859 года (а судя по письменным признаниям Балакиреву, началась еще годом или двумя ранее), блистал в водевильных спектаклях на дому у Бамбергов, исполнив главную роль оперы Кюи "Сын мандарина" "с такой ловкостью и комизмом пения, дикции, поз и движений, что заставил хохотать всю компанию" (247, 42). В конце 60–х годов сестры Пургольд дадут ему, в искусстве уже определившемуся как художник трагический, прозвище "Юмор" – столь часто он развлекал друзей остроумнейшими импровизированными пародиями, розыгрышами. Александра Николаевна Молас вспоминает о ликовании детей по поводу визитов Мусоргского: «Мои дети с восторгом кричали: "Мусорянин пришел, какое веселье!"» 21. Значит, до последних, самых тяжких лет жизни он не потерял способности к шутке, веселым забавам.
Почему Мусоргский, остро нуждаясь в тепле и ласке, упорно отвергал мысль о браке, постарался остудить трогательное увлечение милой, даровитой Саши Пургольд, каковы были его истинные отношения с Н. П. Опочининой? Н. Н. Римская-Корсакова подробно описывает неизгладимое впечатление, произведенное на них с сестрой, юных девушек, личностью композитора: "В нем было столько интересного, своеобразного, талантливого и загадочного… Глаза у Мусоргского были очень маловыразительны, даже, можно сказать, почти оловянные. Вообще лицо его было малоподвижное и невыразительное, как будто оно таило в себе какую-то загадку (курсив мой. – М. С.)" (196, 158–160). О загадке, таинственности феномена личности и гения Мусоргского во всеуслышание заговорят ученые и музыканты XX века…
Случается, что именно трагическое восприятие действительности художником служит подоплекой и ферментом сатиры (Салтыков-Щедрин), гротеска или юмора, порою зыбкого, не то печального, не то колючего, язвительного (Шостакович). Мусоргскому, человеку и творцу, присущи особая двойственность, "полифоничность" – возьмем хотя бы склонность одновременно вынашивать произведения диаметрально противоположного характера и содержания, давно замеченную исследователями; например, всего неделя отделяет создание сумеречно-скорбного романса "Над рекой" и дату записи лучезарного "Рассвета на Москве-реке".
Генетический код, тип темперамента, навыки, привитые воспитанием и образованием, среда, в которой формировался талант, обязательно кладут печать на творчество, поэтому биографии великих людей скрупулезно изучаются. Зависимость личности от творчества далеко не столь хорошо изучена и обычно не столь очевидна, как у Мусоргского. Его поступки, словесные высказывания, жизнеповедение во многом непосредственно продиктованы самочувствием творческим, направленностью замыслов.
Кое-кого из современников смущали литературный "грим", "маски", надеваемые в письмах и устных беседах. Коллеги-музыканты – Римский-Корсаков, Бородин, Кюи (в их эпистолярии не найти ничего подобного) видели тут излишнюю вычурность, манерность, даже юродствование. Напротив, аналогичными приемами часто пользовались филологи, историки, писатели, например Никольский, Костомаров, братья Жемчужниковы. Влияние контактов с ними неоспоримо, но было бы наивно полагать, что Мусоргский просто подражает им. Стилизованные эти "маски" были и некой защитной оболочкой ранимой, повышенно нервной натуры и проявлением артистизма, игры, а главное – отражением того, чем в данный момент кипела фантазия, поглощен ум, то есть отголосками или прообразами, эскизами творимого.
Имеется и еще причина увлечения Мусоргского такими "масками" – его выдающееся, быть может, по сей день недостаточно оцененное литературное дарование. М. С. Пекелис справедливо подчеркивает, что литературный стиль композитора достоин специального исследования, что к созданию литературных текстов его толкало "стремление дать новым художественным идеям наиболее полное, правдивое и гармоничное воплощение в слагающих произведения элементах – образно-словесном и музыкальном" (207, 6)22. Да, сочинение словесных текстов для Мусоргского было важной составной частью переворота музыкального языка, музыкальных форм. Ведь немалое число радикально-новаторских опусов написано на собственные слова; произведений, не связанных со словом или словесно изложенной программой, нет совсем, за вычетом нескольких, почти сплошь незавершенных ранних инструментальных и симфонических пьес (о программном содержании Intermezzo in modo classico мы знаем по красочному пересказу В. В. Стасова). Помогал он и Римскому-Корсакову, сочинив для "Псковитянки" тексты двух хоровых песен в чисто народном духе: "Из-под холмика" и "Ах ты, дубрава-дубравушка". А либретто "Хованщины", выказавшее (кроме глубинного освоения исторических источников) великолепную литературно-художественную интуицию, тексты многих песен – "Светик Савишна", "Семинарист", "Сиротка" и т. п. – шедевры, притом оригинальнейшие.
Известно, что отдельные искусства, питая друг друга подобно сети кровеносных сосудов, развиваются не вполне синхронно. Русскую культуру середины XIX столетия можно назвать литературоцентристской. Как ни велики были достижения, накопленные отечественной музыкой, архитектурой, театром, именно литература служила нервом времени и стрелкой компаса, выдвигала новых героев, которым подражало молодое поколение, новые нравственные и социальные коллизии. Мусоргский мечтает добиться вмешательства музыки в общественную жизнь, не уступающего литературе. Вероятно, и активность его литературного, поэтического творчества – помимо природного дарования – в немалой степени объясняется ведущим положением литературы в культурном контексте эпохи.
Выше уже говорилось о "неопознанности" Мусоргского крупнейшими литераторами, романистами, поэтами и публицистами. Правда, самый музыкально просвещенный среди них, Тургенев, встретив композитора в доме знаменитых певцов, супругов Петровых (Анна Яковлевна исполнила два романса, Осип Афанасьевич – песню Варлаама, автор – фрагменты "Бориса" и вступление "Хованщины"), был приятно удивлен, взволнован и растроган. "Я начинаю верить, что все это имеет будущее… Вперед, вперед, господа русские!" 23 Однако, живя преимущественно во Франции, маститый Тургенев не делал погоды в русской критике.
Нет, не литераторы, но историки, этнографы, филологи – Костомаров, Горбунов, Никольский, художники и скульпторы – Репин, Верещагин, Гартман, Антокольский сумели лучше понять его гениальность, их музыкальное восприятие оказалось более свежим, непредвзятым, не обремененным стереотипами. Первые несомненно оценили смелость и глубину историзма, чутье слова, небывалую доподлинность воплощения народной жизни; вторым помогало и то, что в его искусстве так ярко начало живописно-характеристическое, как бы снята привычная дистанция между слышимым и изображаемым. Они тепло общались с Мусоргским, морально поддерживали и по мере сил содействовали творчеству.
От Горбунова, замечательного рассказчика, импровизатора, знатока русского фольклора, Мусоргский записал песню Марфы "Исходила младешенька". Репин благодарит Стасова за экземпляр "Детской" – "этой поистине чудной вещи" (к ее бесселевскому изданию он нарисовал виньетку) и в декабре 1873 года пишет Владимиру Васильевичу из Парижа: "Быть может, теперь Вы уже наслаждаетесь оперой Модеста Петровича (речь идет о "Борисе Годунове". – М. С.) – счастливец! А мне теперь так хотелось бы послушать русской музыки и особенно музыку Мусоргского, как экстракт русской музыки…"(218, т. 1, 81). Архитектор и художник В. А. Гартман, к которому композитор испытывал искреннюю нежность и раннюю смерть которого тяжко переживал: "Мусоргского олагодарю за тот вечер, когда он был так хорош, впрочем, он всегда божественен"24. Марк Антокольский, узнав о громком успехе премьеры "Бориса", говорит в письме Стасову из Рима: "Как я рад за Мусоргского! Пожалуйста, передайте ему от меня радостное поздравление. Браво! Наша берет!!!" (185, 66). К сожалению, никто из них в печатную полемику с хулителями "Бориса Годунова" не вступал, произведений Мусоргского в прессе не защищал и не пропагандировал.
Если идейное кредо Мусоргского теснейшим образом связано с общественным подъемом 60-х годов, а художническое – с участием в Балакиревском кружке, который в свою очередь был одни порождений этого подъема, то тогда же, в 60-е годы, выявляются некие константы его стиля. Неповторимо индивидуальный стиль композитора интегрирует элементы различных традиций: Глинки и Даргомыжского, западноевропейских романтиков – Берлиоза, Листа, Шумана (весьма почитаемых молодыми балакиревцами25), множества пластов фольклора, старинной церковной и околоцерковной музыки.
Вопрос взаимодействия традицонного и новаторского у Мусоргского и сейчас остается в какой-то мере открытым, отчасти – в силу трудности строгой дефиниции стилевых категорий, шаткости терминов применительно к русскому искусству, тем более музыкальному. Сближала с немецкими романтиками задача утверждения национального самосознания, любовное собирание народных песен и легенд, тяга к анализу внутреннего мира человека, романтизмом была оплодотворена и линия русского музыкального ориентализма. Мусоргскому понадобилось менее десяти лет, чтобы промчаться от "черного", кровавого романтизма (юношеский замысел опер "Ган Исландец" по Виктору Гюго и "Ведьма" по драме Г. Менгдена, 1860), через романтико-эстетизированную, пряную – у Флобера, а у него – уже и реальную, народно-героическую и психологическую "Саламбо" к крайней точке критического реализма в "Женитьбе" и тотчас, буквально не переводя дыхания, начать "Бориса Годунова". "Хованщина" и предельно реалистична, и приотворяет двери в мистико-романтический "мир неведомый", в ней слышен голос самой истории и авторский комментарий, голос земного любовного экстаза и экстаза молитвенного, мудрого всепрощения и черствого аскетизма. Поздняя "Сорочинская ярмарка" воскресила поэтику раннего Гоголя – романтика, сказочника и бытописателя.
Все это дополнительно осложняет периодизацию творчества Мусоргского: оно движется не плавной линией последовательной эволюции, а крутыми, иногда непредвиденными скачками, развитие жанровых групп протекает неравномерно. Черты зрелого стиля быстрее всего кристаллизуются в камерных вокальных сочинениях, хотя бок о бок с прозрениями и там встречаются некие откаты вспять, романсы довольно бледные, с привкусом салонности (например, "Ах, зачем твои глазки порою", 1866). Инструментально-симфоническое творчество запаздывает, первый (и единственный!) симфонический шедевр, "Ночь на Лысой горе", возник летом 1867-го, фортепианный – "Картинки с выставки" – в 1874 году. Потому, не излагая биографии композитора подряд, краткое повествование о его жизни мы будем перемежать описаниями, анализами сочинений наиболее значительных, характеристиками этапов развития отдельных жанров.
2
Биография Мусоргского внешне очень бедна событиями, истинные ее вехи – события творческие или глубоко личные, которые прямо или косвенно находят отражение в творчестве.
Родился 9 марта 1839 года в сельце Карево, четвертым сыном отставного коллежского секретаря Петра Алексеевича Мусоргского и Юлии Ивановны, в девичестве Чириковой. Мусоргские, как и Чириковы, были помещиками скромного достатка, но Юлия Ивановна получила приличное дворянское воспитание, неплохо играла на фортепиано, владела французским языком, любила поэзию. О детстве, проведенном в деревне и в семейном окружении, нам известно немногое. В "Автобиографической записке" говорится: "Под непосредственным влиянием няни близко ознакомился с русскими сказками. Это ознакомление с духом русской народной жизни было главным импульсом музыкальных импровизаций до начала ознакомления еще с самыми элементарными правилами игры на фортепиано" (195, 267)26.
Обучение музыке сперва взяла на себя мать, и дело сразу пошло чрезвычайно успешно. В Петербурге, куда Филарета и Модеста привезли, чтобы подготовить к поступлению в Школу гвардейских подпрапорщиков, – братьям предстояла военная карьера, – начались систематические уроки с профессором Антоном Герке, учеником Фильда, которые дали крепкую техническую базу, солидный репертуар. В Школе тринадцатилетний Модест обратил на себя всеобщее внимание как "фортепьянист" и даже сочинитель: отец, при помощи Герке, в 1852 году напечатал в издательстве Бернарда его первый опус, "Подпрапорщик-польку". Утерянная и лишь в 1939 году найденная М. С. Пекелисом, Полька заинтриговала исследователей; Пекелис усмотрел в ней веяния "новой романтической виртуозности", черты листовской "мужественности, драматизма и оркестральности" (208, 46, 47), явно перехвалив эту гладко написанную пьеску – не отредактировала ли ее Рука Герке? – мало отличающуюся от популярных в тогдашнем быту танцев и вариаций.
Военизированная муштра, пренебрежение к "ученым" предметам, пирушки, где Модест безотказно таперствовал, однако же, не подавили его воли к серьезной умственной и духовной работе. "Читал он очень много, особливо всего исторического; будучи в старших классах, читал также с увлечением немецких философов; одно время он усердно занимался переводом, с немецкого на русский, Лафатера", – сообщает Филарет Петрович (247, 33). Характерны единственные строки, уделенные Школе, в Автобиографической записке: "Часто посещая законоучителя отца Крупского… успел, благодаря ему, глубоко проникнуть в самую суть древнецерковной музыки греческой и католической". Дальше, после скупого уведомления – "17 лет поступил в Преображенский полк", Мусоргский тотчас переходит к новой теме: сближение с Даргомыжским, Кюи, Балакиревым, семьей Стасова, Л. И. Шестаковой и т. д. Beчера в доме Даргомыжского, знакомства, завязавшиеся там, высококультурная среда, чьи интересы были сосредоточены на судьбах русского музыкального искусства, определили решающий перелом в жизни юноши27.
Даргомыжскому его представил товарищ по полку Ф. Ванлярский зимой 1856/57 года, весной, у Даргомыжского, он встретил Цезаря Кюи, вскоре (предположительно летом) – Милия Балакирева. Осенью 1857 года Балакирев, который был всего двумя годами старше Модеста, но зарекомендовал себя публичным исполнением своего Концертного аллегро для фортепиано с оркестром в качестве прекрасного пианиста и ярко одаренного композитора, начинает давать Мусоргскому платные уроки композиции. Уроки своеобразные: "Так как я не теоретик, я не мог научить Мусоргского гармонии… то я объяснил ему форму сочинений. Для этого мы переиграли с ним, в четыре руки, все симфонии Бетховена и многое другое еще, из сочинений Шумана, Шуберта, Глинки и других, я объяснял ему технический склад исполняемых нами сочинений и его самого занимал разбором формы. Впрочем, сколько помню, платных уроков у нас было немного; они как-то и почему-то кончились и заменились приятельской беседой" (247, 39–40).
1 мая 1858 года Мусоргский подает официальное прошение об отставке из полка. Напрасно Стасов отговаривал его, ссылаясь на пример Лермонтова, Модест упорствует: "То был Лермонтов, а то я; он, может быть, умел сладить и с тем и с другим, а я – нет; мне служба мешает заниматься, как мне надо"28. Со стороны материально необеспеченного молодого человека, делавшего первые робкие шаги на избранном поприще, поступок рискованный, непрактичный, если не безрассудный. Но Мусоргский всегда непрактичен, импульсивен. Музыка захватила его всецело, и хотя к этому времени кроме неоконченного Allegro для фортепиано или оркестра написана лишь "Сельская песня" ("Где ты, звездочка?"), он, видимо, обуреваем замыслами, к реализации которых хочет немедно приступить. Осенью родились фортепианное Скерцо до-диез минор, Скерцо для оркестра си-бемоль мажор и сцена в храме из трагедии "Эдип". Оба последних сочинения – этапные в биографии начинающего композитора: вскоре они были с успехом исполнены в публичных концертах. Параллельно осенью 1858 года шла работа над фортепианными сонатами ми-бемоль мажор и фа-диез минор – не законченными и не сохранившимися. Сонаты эти, как и несколько позднейших, как и симфония ре мажор (1861–1862, тоже неоконченная), возникали по наущению педагога. Балакирев требовал неукоснительного выполнения определенных заданий – сочинить инструментальную пьесу в той или иной "правильной" форме. Увы, результаты обычно оказывались неудовлетворительными, форма не клеилась, наставник сердился на бестолкового, якобы ленивого и нерадивого ученика. Причины подобных фиаско хорошо понятны: Мусоргский, инстинктивно стремившийся обрести самостоятельную дорогу, уже почуявший призвание к музыке вокальной, был органически неспособен копировать традиционные приемы развития и "немецкие" конструктивные схемы. Слово "немецкий", кстати, останется для него синонимом косного традиционализма, схоластики. О своем Intermezzo in modo classico он иронически выразится "здесь немец сидит, а не я сам"29, о вокальном творчестве даже "гениальнейших" немцев: "Это народ и в музыке умозрительный, чуть не на каждом шагу впадающий в отвлеченность"30. Нельзя, разумеется, делать отсюда вывод о некой принципиальной германофобии Мусоргского. Он глубоко чтил великих немецких композиторов, неоднократно перекладывал бетховенские квартеты в две и четыре руки для собраний Балакиревского кружка и опочининских суббот наряду с фортепианными транскрипциями произведений Берлиоза ("Бал у Капулетти" и "Фея Маб" из драматической симфонии "Ромео и Юлия", 1862), Глинки ("Персидский хор" из "Руслана", Испанская увертюра "Ночь в Мадриде", 1858), Балакирева (музыка к трагедии "Король Лир", Увертюра на три русские темы, 1859–1860). Несомненно, переложения эти принесли ему огромную пользу в смысле практического овладения формой, гармонией, фактурой и инструментовкой, возможно, большую, чем балакиревские уроки. А подозрительное отношение к "немецкому" обусловлено не только собственным неприятием всяческих канонов, но и враждой, которую Милий Алексеевич внушал своим молодым друзьям к консерватории как оплоту германской рутины.
Покоренный многогранно талантливой личностью, огненным темпераментом и эрудицией Балакирева, благодарный за старание "растормошить" его ("…Милий, вы меня славно умели толкать во время дремоты"31), Мусоргский буквально боготворит наставника, хотя смутно ощущает недостаток получаемой технической подготовки, особенно по части гармонии и контрапункта. Докладывая Милию Алексеевичу о своей летней работе, он мельком роняет: "…на досуге идут практические занятия в гармонии; ужасно хочется прилично писать!" 32 Ему же: "Ведением голосов займусь, начиная от 3-х голосов и что-нибудь произведу путное… для меня хороший стимул, когда я подумаю, что моя гармония имеет нечто общее с белибердой, этого не должно быть и довольно"33.
Балакирев не разделял горячей привязанности ученика, чья пылкость эмоций его отталкивала, да и в целом натура Мусоргского, человека и музыканта, была ему во многом антипатична, взаимные конфликты неминуемы. Предлогом к первой стычке явилась поездка Модеста в Москву зимой 1861 года, откуда он с энтузиазмом описал компанию новых знакомцев, "весьма приличных личностей": "все бывшие студенты, малые живые и дельные. По вечерам все ставим на ноги – и историю, и администрацию, и химию, и искусства…"34. Милий Алексеевич в ответном послании35, видимо, намекнул на его тяготение к "ограниченным личностям", вызвав глубокую обиду и протест обычно мягкого воспитанника: "Произведение мое (Скерцо си-бемоль мажор. – М. С.), без сомнения, встретит предубеждение с вашей стороны, это естественно потому, что вас мутит образ действий моей личности… пора перестать видеть во мне ребенка, которого надо водить, чтобы он не упал"36.
Размолвка была недолгой. Мусоргский, радуясь открытию Бесплатной музыкальной школы, шлет Балакиреву письмо, где красноречиво (и, как всегда, утрированно) излагает балакиревскую позицию, свое тогдашнее понимание борьбы сил.
"В Питере на весьма ничтожном расстоянии образовались две школы, совершенные контрасты по характеру. Одна – профессория; другая – свободное общество роднящихся с искусством. В одной Заремба с Тупинштейном (т. е. А. Г. Рубинштейном. – М. С.) в профессорских, антимузыкальных тогах конопатят головы учеников разными мерзостями и заранее заражают их… Но Тупинштейн туп – следовательно, добросовестно исполняет свой долг; злобно тупит. Заремба… сапожник в схоластическом колпаке, не до того ребенок он, чтобы основывать свои воззрения и советы на эстетике и музыкальной логике, нет! Он научен правилам и прививает эту предохранительную оспу свободного учения всем чающим выучиться искусству. В прах перед Менделем! Вот девиз Зарембы, а Мендель (Мендельсон. – М. С.) бог Зарембы, так как Заремба его пророк… В другой школе вы с Гашенькой (Гавриилом Ломакиным. – М. С). Но что тут говорить: вы талант, и, следовательно, все смелое, свободное, сильное вам присуще, а такие люди нужны людям…"37.
Если ограниченный теоретик-доктринер и бездарный композитор Н. И. Заремба и заслуживал беспощадной критики, то уничтожающая характеристика фигуры Антона Рубинштейна38, оценка деятельности консерватории были явно необъективными, противопоставление РМО и БМШ страдало полемической предвзятостью; кстати, именно в концерте РМО под управлением Рубинштейна 11 января 1860 года прозвучало Скерцо Мусоргского си-бемоль мажор. Главными, притом весьма могущественными врагами "новой" русской музыки были государственные сановники и меломаны, группировавшиеся в салоне великой княгини Елены Павловны, которая воображала себя покровительницей искусств. И ее, "преславную богиню Евтерпу", Мусоргский не побоится вывести в "Райке" – надо думать, оплатив этот выпад ценой многих закулисных интриг, сопровождавших его столь тернистый путь…
Задержимся на публичных дебютах Мусоргского. Скерцо си-бемоль мажор – короткая оркестровая пьеса (по мнению А. Н. Серова, назвавшего ее "очень хорошей", но, к сожалению, слишком короткой) – построено в трехчастной форме, где бойкой, упругой теме обрамляющих разделов типа народной хороводной колоритно контрастирует средний раздел, медленное ре-мажорное Трио с темой в восточном духе: томные, переливчатые гармонии, тянущиеся тонические педали струнных39. Посвященная Балакиреву сцена в храме из музыки к "Эдипу" Софокла – фрагмент большого произведения, задуманного наподобие драматической оратории, но неосуществленного, хотя было написано еще несколько номеров (не сохранившихся) и хотя автор неоднократно возобновлял эту работу, сделав ряд версий, клавирных и оркестровых. Содержание сцены – мольба и ужас народа, настигнутого карой богов за невольные преступления царя; суровая энергия хоровой фактуры, трагедийный накал симптоматичны для молодого композитора, как бы предвещая идеи и ситуации его будущих опер. Исполненная 6 апреля 1861 года оркестром Мариинского театра под управлением К. Н. Лядова, она прошла почти незаметно. Однако друзья ее одобряли: по свидетельству Римского-Корсакова, в начале 60-х годов «единственным признанным в кружке сочинением Мусоргского был хор из "Эдипа"» (222, 47)40.
Властный, деспотичный Балакирев, недовольный то и дел бросаемыми в стадии заготовок тематизма инструментальными вещами, игнорировал песни и романсы ученика, потому ложно представлял его потенции, не замечал его творческого роста. Особенно возмутил мэтра отзыв Мусоргского о "Юдифи" Серова. Модест, Модинька, которого еще не принимали всерьез, дал удивительно серьезный, спокойный и точный разбор достоинства и недостатков оперы – устный, встретив В. В. Стасова на премьере спектакля, и письменный – в подробном, снабженном нотными примерами послании Балакиреву41. Владимир Васильевич, к тому моменту насмерть поссорившийся с Серовым, негодует: "Я совсем один, не с кем говорить… Что мне в Мусоргском, хотя он и был вчера в театре… я не слыхал у него ни одной мысли, ни одного слова из настоящей глубины понимания, из глубины захваченной, взволнованной души. Все у него вяло, бесцветно. Мне кажется, он совершенный идиот. Я бы вчера его высек" (20, 203). Милий Алексеевич (составивший отрицательное мнение о "Юдифи" на основании знакомства с первым актом партитуры) соглашается: "У меня никого, кроме вас, нет. Кюи я не считаю, он талант, но не человек в общественном смысле, Мусоргский почти идиот" (20, 212). Между тем в отзыве налицо и настоящая глубина мысли, и драматургическая зоркость, и стремление уяснить для себя современные требования жанра большой легендарно-героической оперы. Характерно, что наибольшее впечатление на него произвел хоровой финал первого акта "Юдифи". "Народ проклинающий, народ свирепеющий в fugato, теряет последнюю надежду, последнее сознание своих сил – бессильный, он отдается одному чувству, – какой-нибудь сверхъестественной помощи; резкий переход к pianissimo (квинты в басах при этом как-то особенно, мистично звучат): это какая-то торжественная затишь, так и не заканчивающаяся, и это прекрасно…"42. В "Саламбо", к сочинению которой он вскоре приступит (клавир второй картины второго акта завершен в декабре 1863 года), где сюжетные мотивы отчасти перекликаются с "Юдифью", будет реализовано нечто аналогичное: кульминация сцены грозы внезапно обрывается, раскаты грома смолкают, народ падает на землю, и воцаряется "торжественная затишь".
Воротясь из Псковской губернии осенью 1863 года, Мусоргский с тремя братьями Логиновыми, Н. Лобковским и Н. Левашевым поселился в "коммуне", устроенной по модели, начертанной знаменитым романом Чернышевского, каких тогда немало возникало среди демократической молодежи.
Стасов в самых радужных тонах рисует эту маленькую "коммунv". «Все это были люди очень умные и образованные: каждый из их занимался каким-нибудь любимым научным или художественным делом, несмотря на то что многие из них состояли на службе. И те три года, что прожили на новый лад эти молодые люди, были, по их рассказам, одними из лучших во всю жизнь. Для Мусоргского – в особенности. Обмен мыслей, познаний, впечатлений от прочитанного накопил для него тот материал, которым он потом жил остальные свои годы; в это же время укрепился навсегда тот светлый взгляд на "справедливое" и "несправедливое", на "хорошее" и "дурное", которому он уже никогда впоследствии не изменял» (247, 31–32).
Владимир Васильевич изрядно приукрашивает влияние коммуны на этос композитора и ее бытовой уклад, в действительности не лишенный беспорядочной богемности. Мусоргский захворал, "подготовлялась ужасная нервная болезнь", и семья Филарета Петровича зимой 1865/66 года заставила его перебраться к ним. Острые расстройства нервов случались и до того. В 1859 году он писал Балакиреву, что "два года тому назад или меньше был под гнетом страшной бслезни", начавшейся в деревне: "Это мистицизм, смешанный с циническою мыслию о божестве. Болезнь эта развилась ужасно по приезде моем в Петербург; от вас я ее удачно скрывал, но проявления ее в музыке вы должны были приметить"43. "…Я буквально оманфредился, дух мой убил тело… мне на время необходимо оставить и музыкальные занятия и всякого рода сильную умственную работу для того, чтобы поправиться…"44. Тогда основной причиной срыва, вероятно, было переутомление, вызванное чрезмерной для запоздало формировавшегося организма работой. Теперь, когда к напряженным музыкальным занятиям добавилась казенная служба45, тяжелый удар нанесла потеря нежно любимой матери Юлии Ивановны, скончавшейся весной 1865 года.
В отличие от Стасова, Балакирев вряд ли одобрял компанию "коммунаров" (вспомним упрек насчет тяготения к "ограниченным личностям"!), хотя З. Савелова полагает, что как раз через них композитор познакомился с рядом выдающихся литературных и общественных деятелей (234, 171). За спиной Мусоргского Балакирев и Кюи обмениваются ехидными, а то и грубыми насмешками. Так, получив известие, что Модинька сочиняет оперу, Милий Алексеевич недоуменно вопрошает: "Он, должно быть, совсем рехнулся и превращается в тараканье?" 46. Кюи – его-то Балакирев твердо считал талантом! – сыплет колкостями, стараясь повлиять и на юного Корсакова. "Моденька сказал какое-то музыкально чудище – якобы Трио к своему Скерцо; чудище обло, огромно; тут и церковные напевы нескончаемой длины и обычные Модинькины педали и проч., все это неясно, странно, неуклюже и никак не Трио"47. «Модинька – воскрес. Сочинил два романса и "Калистратушку" Некрасова, "Tableau de genre". Вот вам и новая музыкальная форма. Все это не лишено хороших поворотов, мыслей, но в целом – весьма ерундово»48. Не удивительно ли, что Модест посвятил Цезарю Антоновичу наиновейшую форму – песню "Светик Савишна"? Впрочем, незлобивость, добродушие вполне в его характере, да, возможно, он и не подозревал об истинном отношении двух старших коллег, продолжая испытывать доверие и пиетет к Балакиреву.
Длительное отсутствие Милия Алексеевича, в сезоне 1866/67 года уехавшего на гастроли в Прагу, очень сблизило Мусоргского и Римского-Корсакова. Николай Андреевич вспоминает: «Я бывал у него… Он много мне играл отрывков из своей "Саламбо", которые меня премного восхищали. …Играл мне Мусоргский и романсы свои, которые не имели успеха у Балакирева и Кюи. …Во время посещений моих Мусоргского мы с ним беседовали на свободе без контроля Балакирева или Кюи. Я восхищался многим из игранного им; он был в восторге и свободно сообщал мне свои планы. У него их было больше, чем у меня» 49. Отметим радость "младших", освободившихся из-под придирчивой опеки "старших", взаимные восторги – Модест так нуждался в доброжелательной, товарищеской, музыкантской поддержке! Расставшись на лето, они не перестают информировать друг друга, чем заняты, Мусоргский сообщает содержание и основной тематический материал только что написанной "Ночи на Лысой горе"50, а "Корсинька" – готовых фрагментов "Садко".
"Ночь на Лысой горе" вылилась в едином порыве: "…так и кипело что-то во мне, просто не знал, что со мной творится, т. е. знал, да этого не нужно знать, а то зазнаешься"51. Ему кажется нескромным выговорить слово вдохновение, несмотря на уверенность в счастливой, вдохновенной удаче своего первого "российски самобытного" симфонического произведения. Тем больнее травмировала его реакция ментора. Балакирев, вернувшийся в Петербург начале сентября, разбранил партитуру и наотрез отказался ею дирижировать, если она не будет радикально переделана. Письмо-ответ Мусоргского, нарочито вежливое, холодноватое, соединяет еле сдерживаемое возмущение и печаль. «Я считал, считаю и не перестану считать эту вещь порядочной и такой именно, в которой я после самостоятельных мелочей впервые выступил самостоятельно в крупной вещи… Согласитесь Вы, друг мой, или нет, дать моих ведьм, т. е. услышу я их или нет, я не изменю ничего в общем плане и обработке» 52. Он и не уступил ни на йоту, услышать исполнение вещи, с которой связывал столько надежд, ему не довелось. Инцидент с "Ночью на Лысой горе" фактически был концом десятилетних отношений с Балакиревым. Они еще будут мирно встречаться на музыкальных вечерах у Даргомыжского, Шестаковой, Пургольд, но Балакирев все реже и реже посещал эти собрания. Изредка – вплоть до 1872 года – они переписывались.
3
Какие же "самостоятельные мелочи" подразумевал Мусоргский? Конечно, не ранние фортепианные пьесы – этюдообразное "Воспоминание детства" (1857) или "Impromptu passionne" (1859), посвященное Н, П. Опочининой с подзаголовком "Воспоминание о Бельтове и Любе" (т. е. героях романа Герцена "Кто виноват?"), где слишком чувствуется влияние мендельсоновских Песен без слов. "Няня и я" (апрель 1865) зрелее, ближе Шуману сочинение, хотя фактура, ритмика и гармонический язык бедны по сравнению с фортепианным аккомпанементом хронологически соседних и предшествующих вокальных опусов; "Дума" (июль 1865) на мотив Вяч. Логинова, которому и посвящена, – достаточно заурядная пьеса для домашнего музицирования.
Ни Скерцо си-бемоль мажор, ни фортепианное Intermezzo in modo classico (кроме Трио, написанного в 1861 году), летом 1867 переработанное для оркестра, не обладали еще особой самостоятельностью. Мы знаем, что Интермеццо вдохновлено сценкой, виденной композитором в Псковской губернии: праздник, толпа мужиков шагает по сугробам, поминутно проваливаясь и с трудом выкарабкиваясь оттуда. «У меня мелькнула в голове эта картина в музыкальной форме, и сама собою сложилась первая „шагающая вверх и вниз" мелодия a la Bach; веселые, смеющиеся бабенки представились мне в виде мелодии, из которой я потом сделал среднюю часть или trio » (247, 47–48)53. "Баховская" мелодия, в сущности, мало похожа на Баха. Октавными унисонами, ритмически акцентированным опеванием квартовых оборотов (I – IV, II – V) упором на квинту лада, мускулистыми скачками она несколько напоминает "Прогулку" из "Картинок с выставки" (тоже образ шага, пусть и не "трудного", а бодрого, размашистого) и отдаленно – оркестровый лейтмотив старого князя Хованского (пример 82).
Черты самостоятельности стиля, как уже говорилось, кристаллизуются не в инструментальном, но в песенно-романсовом творчестве. Наиболее раннюю "Сельскую песню" ("Где ты, звездочка?" слова Н. Грекова) автор пометил датой 18 апреля 1858 года, инструментовку – 4 июня. Соответственно, в оркестровой редакции песни исследователи искали и некоторые даже усматривали признаки усовершенствования54. Однако здесь налицо, скорее, художественные потери: сняты оригинальные ладовые мерцания отыгрыша (смена верхнего тетрахорда мелодического минора дорийским), доминантовость оголена; если в апрельской версии доминантовые гармонии всячески вуалировались, теперь остановки-цезуры на доминантовом трезвучии обрамляют новую среднюю строфу, на кульминации которой появился "жестокий" оборот, отнюдь не характерный ни для крестьянской протяжной песни, ни для будущего мелоса композитора.
Видимо, пометки, собственноручно сделанные Мусоргским при подготовке сборника "Юные годы", были ошибочными и запутали исследователей. По довольно правдоподобной гипотезе американского музыковеда Р. Тарускина, опирающейся на зарубежные архивы (рукопись восемнадцати песен тетради "Юные годы" хранится в библиотеке Парижской консерватории) и на сопоставление со специфической ладовой переменностью русского фольклора, в действительности "вторая" редакция была первой, а принимаемая за "первую" могла родиться лишь в 60-е годы, после знакомства Мусоргского с балакиревскими записями (см.: 310, 68–79).
"Листья шумели уныло" на стихи А. Плещеева (1859) автор снабдил подзаголовком "музыкальный рассказ", как бы подчеркнув жанровую необычность этого драматического романса, который говорит о быстром росте таланта и пробудившемся у Мусоргского интересе к гражданской тематике. Содержание текста – тайные ночные похороны политического арестанта, революционера. Мерная, сурово-повествовательная мелодия голоса выразительно оттенена мрачным, монотонно колышущимся аккомпанементом, остинатные басовые педали упорно повторяют нисходящий фригийский тетрахорд (под конец он проникает и в вокальную партию), с давних пор служивший воплощению скорби: много лет спустя мы найдем его в гениальной кантилене гадания Марфы (пример 83). Появляется здесь и одна из любимых, нередко встречаемых впоследствии гармоний – мажорная субдоминанта минора, придающая особую экспрессию динамическим кульминациям песни, ее фортепианной коде.
О своей "Песне старца" на слова из "Вильгельма Мейстера" Гёте (1863) Мусоргский писал: "…нищий мою музыку может петь без зазрения совести…"55 Тут композитор впервые попытался воспроизвести социально и психологически более или менее конкретный персонаж. Но значение "Песни старца" шире, нежели только зарисовка образа нищего странника (излюбленного немецкими романтиками, но трактованного Мусоргским вполне самобытно), небольшой этот монолог стал вехой на пути к великим оперным творениям; Э. Фрид справедливо отметила, что перед нами "первый из мудрых старцев, предтеча Досифея" (272, 277). Показательна тональность ми-бемоль минор, отныне избираемая для образов возвышенно-трагедийного и философского плана (например, ариозо Щелкалова и монолог Бориса "Тяжка десница грозного судии", куда от "Песни старца" идут явные интонационные нити); показательны и разомкнутость формы, ладогармоническая неопределенность начала фортепианного вступления и концовки с ее регистрово раздвинутыми, как бы повисающими в воздухе терциями (пример 84).
Кроме "Песни старца" август 1863-го принес трогательный романс "Но если бы с тобою я встретиться могла" и воинственную героическую балладу "Царь Саул", ближайшие месяцы – песню "Много есть у меня теремов и садов", которая, начавшись как ликующий гимн раздолью, завершается тихой, медленной, грустно самоуглубленной строфой; "Дуют ветры, ветры буйные" – март 1864, фантазию "Ночь" – 10 апреля и "Калистрата" – 22 мая. Весь этот отрезок времени и последующие два года, работая над "Саламбо", Мусоргский лишь набавляет темп исканий в камерных вокальных произведениях различного профиля.
В группе лирических романсов тех лет выделяются "Но если бы с тобою…" на слова В. Курочкина, "Ночь" по Пушкину, "Желание" на стихи Гейне (все три посвящены Надежде Петровне Опочининой) и "Молитва" на слова Лермонтова. Первый из упомянутых – редкий случай соприкосновения Мусоргского с романсовым стилем Чайковского, как бы предугадываемым56: никнущие, печально-вопросительные интонации и патетические кульминационные взлеты мелодии, секвенции и щемящие секундовые задержания фортепианной коды. Но обозначенная в ключе тональность сольмажор постоянно размывается отклонениями в субдоминантовые тональности (преобладают до минор и ми-бемоль мажор, иногда – ля минор и одноименный соль минор). Таких внезапных, скользящих ладотональных колебаний у Чайковского не найти (пример 85). Интересны уже просматривающиеся черты структурной ненормативности. Две вокальные строфы построены на неодинаковом тематическом материале, фортепианное вступление становится их припевом и рефреном формы, причем на развитии его материала основаны и первая связка между строфами, и остро экспрессивная инструментальная кода. Таким образом, рондальная "сетка" скрепляет двухчастность, пусть еще и не резко контрастную, как это нередко бывает впоследствии. Разнотемность строф-куплетов (а иногда и внутри них), свободное совмещение признаков различных форм будет весьма типично для песенно-романсового творчества Мусоргского.
"Ночь" недаром названа фантазией. Фантазийно, поэмно строение формы, quasi-оркестральна щедрость фортепианной фактуры57. Тремоло, арпеджированные аккорды, прихотливо струящиеся пассажи, импрессионистски изысканные переливы красок создают волшебную, призрачную атмосферу, сродни атмосфере иных звуковых пейзажей Дебюсси и Равеля. Почему композитор рискнул править знаменитое стихотворение? Этот романс – интимнейшее признание, и, видимо, он ощутил неодолимую потребность во внесении собственных слов. Признание взволнованное, полное ласки, но, думается, скорее мечтательное, трепетно нежное, чем пламенно страстное, "экстатическое", как считает ряд исследователей. Лирике Мусоргского, особенно того времени, вообще свойственна скромность, застенчивость, недосказанность; наглядный пример – романс "Желание" ("Хотел бы в единое слово"), будто скованный состоянием полудремоты (семантически определяющими явились слова "под грезой ночной", "во сне"), даже робкий перед эмоциональным порывом прославленного романса Чайковского. Стихия жгучей испепеляющей страсти войдет в его музыку только с образом Марфы, ведь пленительная, дивно красивая кантилена Марины Мнишек в дуэтной сцене у фонтана ("О, царевич, умоляю…") таит лукавое, холодное кокетство.
В редакции "Ночи" 1871 года Мусоргский еще гораздо активнее вмешивается в пушкинский текст, прямо указав: "Свободная обработка". С точки зрения художественной, пожалуй, чересчур активно, и Цезарь Кюи, рецензент "Санкт-петербургских ведомостей", имел поводы осмеять фразеологические неловкости. Существеннее, однако, что теперь текст прочтен "как рассказ о создании любовных стихов, обращенных к той, чей образ видится, голос слышится поэту", – например, не "Мой голос для тебя и лаковый и томный", а "Твой образ ласковый так полн очарованья, так манит…" и т. д. (30, 27).
"Молитва", посвященная Юлии Ивановне Мусоргской незадолго до ее смерти, овеяна глубочайшей сердечной теплотой, за душу хватающей проникновенностью высказывания. Примечателен налет импровизационности, гибкое перетекание элементов различной жанровой природы: ариозно-романсовых ячеек ("Я, матерь Божия", "но я вручить хочу"), восходящих к знаменному распеву ("ныне с молитвою", "ярким сиянием" и т. д.), и полуречитативых "говорных" (над заключительной репликой "тебя молю! стоит ремарка "говорком"). Соотношение разделов формы базируется на сочетании свободной тематической вариантности и контраста, реализуемого преимущественно тональными и фактурными средствами: си-бемоль минор – соль-бемоль мажор первого и ми-бемоль мажор – соль минор второго. Однако благодаря обилию отклонений, по сути дела, тональный план много сложнее; в первый внедряются блики: ре-бемоль мажор, ля-бемоль минор, во второй – до минор, соль мажор и т. п., а заканчивается пьеса доминантой ми-бемоль мажора.
Впрочем, и в других, в том числе сравнительно более традиционных лирических романсах Мусоргского нередки ладотональные сдвиги и обновление тематизма второй части формы. Так, напоминающая лирику Даргомыжского начальная ре-минорная часть романса "Что вам слова любви" (1860) сменяется значительно более оригинальной гимнически светлой второй, звучащей в одноименном мажоре. В романсе "Из слез моих выросло много" (1866) – обновлены мелодический рисунок, фактура, метроритм и тональность (ми-бемоль мажор – ре-бемоль мажор).
Если "Песнь старца" есть некий эскиз трагедийно-философских оперных образов, то в "Дуют ветры" на слова Кольцова – образ могучей бунтарской силы, который предвосхищает народные хоровые сцены "Бориса Годунова"58. Характерны низвергающиеся каскадами октавные унисоны и гулкие, массивные аккорды фортепиано, вольная широта интервалики партии голоса, повторы мужественно-утвердительного квартового хода с V ступени к I (пример 86). Последние три строфы, где поэт, созерцая лютую непогоду, погружается в меланхолические думы о холоде одиночества, мечты об "огонь-душе – красной девице", композитор отсек: "ветры буйные" и "тучи темные" для него символизируют главное – грозу народного мятежа, и потому песня завершается почти буквальной репризой первой строфы. Середина – раскидистая мелодия типа крестьянской протяжной – была бы довольно традиционной, когда бы в нее не вплетались интонации мужской бурлацкой песни, слоя фольклора, открытого Балакиревым в начале 60-х годов (пример 87).
В "Дуют ветры" уже намечена основная сфера выразительности до-диез минора как тональности напряженно драматической, отвечающей образам народного гнева и скорби. Подобные функции получает до-диез минор и в "Борисе Годунове". Выбор тональностей у Мусоргского всегда принципиально значим, его тональная семантика – проблема, достойная особого исследования59. В противовес Корсакову, наделенному "цветным" слухом, он руководствуется не краской, колоритом, а экспрессивным потенциалом той или иной тональности, исторически накопленным или самостоятельно зафиксированным, причем семантическое "ядро" каждой от сочинения к сочинению уточняется, эволюционирует.
Как известно, Мусоргский любит тональности с большим количеством диезов и бемолей, чаще минорные, среди мажорных – ре-бемоль мажор, си мажор, соль-бемоль мажор, иногда ля-бемоль мажор; фа-диез мажор – по традиции, завещанной западноевропейскими романтиками, прежде всего Листом, – приберегается для самых романтически возвышенных образов, – фантазия "Ночь" раннее "Impromptu passionne" (неудивительно, что его возмутило балакиревское требование дать в фа-диез мажоре эпизод славления Сатаны!).
Употребление тональностей "простых", к тому же длительно выдерживаемых, встречается редко; это могут быть образы шутливые или эпические, но непременно внутренне целостные. Однако наряду с интенсивной семантизацией тональностей Мусоргскому более, чем кому-либо из русских композиторов XIX века, присуща свобода от норм мажоро-минорной системы. Расшатывая тональность далекими отклонениями, пользуясь целотонным и уменьшенным звукорядами (введенными в обиход еще Глинкой и Даргомыжским), он охотно прибегает к старинным натуральным ладам60: порою – на кратчайших участках формы, если хочет вызвать мимолетную ассоциацию с церковным песнопением, эффект архаики, порою – на пространстве большого эпизода, если это обусловлено текстом, ситуацией.
"Калистрат" открывает галерею "картинок из народной жизни" и вместе с тем группу колыбельных песен – жанра, которому Мусоргский дал необычное выразительное наполнение: не покой, ласка, умиротворенность, а явная или тайная скорбь, душевная боль.
В "Калистрате" сконцентрированы многие языковые средства и новаторские конструктивные закономерности, свойственные зрелому стилю композитора, как-то: горизонтальное и вертикальное совмещение разнородных по истокам интонационных элементов61, преодоление куплетности, слияние рондообразной и вариационной форм.
За колыбельно-баркарольным инструментальным вступлением эпико-повествовательный, почти былинный раздел "Надо мной певала матушка", где былинность подчеркнута переменным метром (7/4, 3/2), унисонами партии голоса и фортепиано, и только потом звучит собственно колыбельная, поначалу беззаботно-радостная ("Будешь счастлив, Калистратушка"). После эпизода "И былось по воле Божией…" мелодия колыбельной становится материалом четырех свободных, изнутри драматизируемых вариаций. Эпизод этот, иронически комментирующий предсказания матушки, сочетает размах, даже торжественность, мелодико-гармонические обороты церковного склада и легкий намек на скерцозность ("приплясывающее" дробление предпоследней четверти такта), которая еще сильнее проступает в стаккатирующем аккомпанементе первой и второй вариаций, издевка – в динамически кульминационной третьей, горькая ирония – в четвертой ("носит лапти с подковыркою!") 62.
"Спи, усни, крестьянский сын" на слова из пьесы "Воевода" Островского (сентябрь 1865) лаконичнее и не содержит такого обилия тончайших эмоциональных перепадов, жанровых контрастов. Традиционная припевка "баю-баю", звучащая в "темном" дорийском си-бемоль миноре, близка плачу-причитанию, единственная отчетливая цезура формы отнесена к концу, фактически кодовому разделу: "Белым тельцем лежишь в люлечке, твоя душенька в небесах летит…". Здесь тематический материал обновлен, дорийский минор припева (и мажоро-минор куплетов) сменяется лидийским си-бемоль мажором, знаменуя "небесное" катарсическое просветление.
"Колыбельная Еремушки" (март 1868, посвящена Даргомыжскому) по складу отчасти похожа на "Спи, усни, крестьянский сын". Рефреном опять служит печальное баюканье (пример 88 а, б). Повествовательные "куплеты" (термин, пригодный лишь с натяжкой) интонационно и ладотонально неодинаковы, особенно отличается второй из них, образующий некую середину формы; последний ("В люди выйдешь – все с вельможами станешь дружество водить") нарочито перенесен в фа-диез мажор. Но тем острее воспринимается заключительное проведение рефрена, насыщенное диссонансами благодаря альтерациям, колебаниям между мажором и минором.
"Гопак" на слова из поэмы "Гайдамаки" Шевченко примечателен обнаженными украинизмами63, а еще более – образом "горького пляса", синтезом упругого плясового ритма, лихих бесшабашных возгласов ("Гой!") и стонущих "плачевых" интонаций. Кстати, и сюда, в подобие середины вольно трактованной трехчастности (объединенной с вольным же преломлением куплетно-строфического принципа), проникла колыбельность, правда, недвусмысленно заданная текстом.
"Светик Савишна" – образ совершенно новый для профессионального музыкального искусства, чисто народный, почвенный. "Как мне рассказывал потом сам Мусоргский, он задумал эту веom в деревне у брата… еще летом 1865 года. Он стоял раз у окна и поражен был тою суетою, которая происходила у него перед глазами. Несчастный юродивый объяснялся в любви с молодой бабенкой, ему нравившейся, умолял ее, а сам себя стыдился, своего безобразия и несчастного положения… Мусоргский был глубоко поражен: тип и сцена сильно запали ему в душу: мгновенно явились своеобразные формы и звуки для воплощения потрясших его образов" (247, 73). Мгновенно явились, видимо, и слова, как и в большинстве народных картинок, сочиненные композитором.
Трагизм песни потряс даже Серова, несколько предубежденного против Мусоргского. «Когда я окончил петь, А. Н. долго молчал, как бы сконфуженный или опасаясь высказать мнение, могущее поколебать авторитет критика, и наконец быстро проговорил: "Ужасная сцена. Это Шекспир в музыке"» , – вспоминает Н. Компанейский (194, 111).
Удивительна достоверность вокальной декламации, гибкость попевок-вариантов, порой не различаемых слухом благодаря текучести и эмоциональному накалу высказывания. Опора на специфическую речевую форму – мольба-заклинание – продиктовала пятидольник, характерный для ряда фольклорных жанров (и поэтов народнического толка, Кольцова, например), и остинатную фигуру аккомпанемента (пример 89).
"Сиротка" откровенно трагедийна, а достоверностью декламации, богатством психологических нюансов не уступает "Савишне". Это и кроткая, смиренная жалоба ребенка, выпрашивающего подаяние у "добренького" барина, и суровый сказ о нестерпимых страданиях, голоде и холоде, людской черствости (средний раздел). Последняя фраза звучит горестным воплем, обрываясь и затухая: барин, должно быть, равнодушно прошел мимо.
"Ах ты, пьяная тетеря", "Семинарист" и "Озорник" (аналогично "Сиротке" – на собственные тексты) принадлежат к иной, сатирико-юмористической линии, играющей весьма важную роль в творчестве Мусоргского.
"Пьяная тетеря" имеет подзаголовок "Из похождений Пахомыча". Пахомыч – В. В. Никольский; ему, его воображаемому загулу и расплате и посвящена эта забавная картинка – воображаемый гневный монолог супруги.
Театрально-рельефнейший "Семинарист", который искрится сочным юмором, житейской правдой, строится на непрерывном контрасте планов: нудной, монотонной зубрежки и воспоминанийгероя, то прискорбных ("Вот так задал мне поп таску…"), то соблазнительных – о прелестях поповой дочки. Бедняга постепенно воодушевляется, мечты и досада на "чертова батьку" заслоняют смертельно надоевшую латынь, в конце он с остервенением, наподобие ругани выкрикивает: "Et canalis, et canalis!"
В "Озорнике", как и в "Савишне", прообраз речевой, метр пятидольный, композиция тяготеет к сжатию в одночастную. Но "Савишна" воплотила мучительную борьбу чувств, а озорной мальчишка одержим детской жестокостью; лесть немедленно оборачивается издевкой, он и трусит, боится старухиной клюки ("Ой, не бей!") и не унимается, выдумывая новые оскорбления. Некое эхо "Озорника" – эпизод мальчишек и Юродивого в "Борисе Годунове".
Именно внутри сатирико-юмористической группы, преимущественно "говорной", особенно ясно определилось значение всевозможных видов парной периодичности мотивов (восходящей к фольклорным жанрам, в первую очередь связанным с движением, т. е. хороводным, игровым, календарно-обрядовым, прибаутке и считалке): aabb, abab, иногда с замыканием – aabbc и т. п. Парная периодичность чем дальше, тем больше оказывается одним из ведущих композиционных методов Мусоргского.
Так, в "Пьяной тетере" почти сплошь нанизаны построения типа аа bb cc dd и т. д., число симметричных двутактов достигает двадцати (пример 90). Кое-где они перебиваются разъяренными восклицаниями, а в центре – притворно слезливыми увещеваниями.
"Классик" (декабрь 1867) и "Раёк" (июнь 1870) – злободневные памфлеты-пародии. В "Классике" Мусоргский осмеял рьяного блюстителя классических правил, профессора А. С. Фаминцына, и потому взял интонации, сделавшиеся трюизмами еще в оперной и симфонической музыке XVIII – начала XIX века, сугубо "правильную" трехчастную форму64. "Раёк" написан в духе балаганного ярмарочного спектакля. Здесь друг за другом выведены консерватор Заремба, пылкий поклонник колоратур Патти Феофил Толстой, "тяжко раненный Младенец" – Фаминцын, грозный "титан" Серов, который скачет на "тевтонском букефале" (т. е. пытается подражать Вагнеру), и великая княгиня Елена Павловна – "Евтерпа", являющаяся в ореоле арфообразных арпеджий. Маски убийственно остроумные: Ф. Толстого, "Фифа вечно юного", характеризует окарикатуренный вальс Штрауса, Серова – цитата из оперы "Рогнеда", примитивная, аляповатая песня дурака.
Обзор эволюции камерного вокального творчества заставил нас забежать вперед, минуя работу над "Саламбо", растянувшуюся почти на три года (октябрь 1863 – лето 1866).
Стасов рассказывает: « В числе книг, читанных сообща в "коммуне", был роман Флобера "Саламбо"… Все "товарищи" были восхищены его картинностью, поэзией и пластичностью» (247, 53). Конечно, роман мог увлечь композитора и упомянутыми качествами, однако притягательнее, вероятно, были яркость типов, социальный конфликт, перекликающийся с современностью, – бунт рабов и наемников против тирании Карфагена. Флобер затратил пять лет, штудируя историю и археологию, ездил в Тунис, где некогда стоял Карфаген, дотла разрушенный римлянами; он обильно насытил текст описаниями пестрой разноплеменной толпы, костюмов и драгоценных уборов, кровопролитных сражений, пыток и казней, литературная фабула очень извилиста. Мусоргский отмел пряную "декоративную" экзотику, обострил звучание социального конфликта, сосредоточив действие вокруг фигуры вождя ливийцев Мато, трагедии его любви к дочери Гамилькара и потерпевшего катастрофу восстания (потому уже в эскизах 1864 года встречается иное наименование оперы – "Ливиец"). У Флобера отчаянно храбрый, буйный "варвар" Мато суеверен, страшится гнева богов, колеблется, порою наивно и слепо покоряется советам хитрого, циничного Спендия, в опере же он целеустремленно борется за свободу угнетенных. Не случайно в скорбном ариозо Мато "Я умру одинок" использовано стихотворение русского поэта-демократа А. Полежаева "Песнь пленного ирокезца"; текст Боевой песни ливийцев откровенно революционен:
И пусть свободы песнь раздается.
Местью за рабство пусть отдается.
На смерть тиранам жадным!
……………………………
Слава свободе, слава!
Предположение, что Мусоргский загорелся желанием сочинить большую героическую историко-легендарную оперу как бы полемизируя с "Юдифью" Серова, выдвигалось не раз. Но для осуществления идеи ему недоставало мастерства драматургии крупного штриха, умения в новых для него условиях сплавить речитативную декламацию и кантилену.
Называть "Саламбо" "неоконченной" не вполне корректно – нет не только конца, а и начала, ряда фабульно важных сцен и картин. Судя по авторским пометкам, раньше всего были записаны вторая картина второго действия – Саламбо в храме Таниты, похищение заимфа (декабрь 1863), Песнь балеарца на пиру в садах Гамилькара, т. е. один номер первого действия (август 1864) и грандиозная первая картина третьего действия – "Капище Молоха" (ноябрь 1864).
Вообще строгая датировка материала затруднительна.
Например, Боевую песнь ливийцев Мусоргский пометил апрелем 1866 года, но ясно, что родилась она гораздо раньше65, так как служит неким сквозным лейтмотивом; ее обороты звучат в партиях Мато и Спендия из эпизода похищения волшебного покрывала, есть они и в первой картине четвертого акта – Подземелье Акрополиса (ц. 3, герой вспоминает погибшего соратника), замыкают мрачнейшую картину светлой оркестровой кодой (ре мажор, ц. 47). Какой-либо восточный колорит в песне ливийцев отсутствует, хоровая партия местами (ц. 4 и 5) скорее близка церковному обиходу (оттого она в 1877 году и могла быть переделана в "Иисуса Навина"), хотя энергия основной темы, буйные возгласы "Ай-га" вкупе с инструментальной фактурой (мощные унисоны, октавные репетиции и т. п.) предсказывают народные сцены "Бориса Годунова". По сути, ориентально окрашена лишь Песня балеарца благодаря частому понижению VII ступени, которое сообщает ладу миксолидийский оттенок, синкопированному ритму и узорчатым фиоритурам мелодии.
Монолог Саламбо, ее молитва богине луны Таните и типом экспрессии, и непрерывностью развертывания, и хроматизированной "импрессионистской" тканью перекликается с романсом-фантазией "Ночь", иначе говоря – произведением камерного жанра, пусть впоследствии и оркестрованным. Некоторые другие сольные эпизоды, скажем, красивый кантиленный раздел "Я умру одинок" большого предсмертного монолога Мато и мелодически, и тонально-гармонически несколько статичен; фрагменты речитативные содержат немало традиционных для оперных арий мести и воинственной героики интонаций (ниспадающие октавы, решительно восходящие кварты – точь-в-точь как в стилистически не особенно оригинальной "Песне Саула").
Самая яркая, многоплановая, наполненная контрастами картина – жертвоприношение Молоху. Здесь заняты три разных хора: жрецы, народ осажденного врагами Карфагена и дети, на сцену выведен добавочный военный оркестр. Суровые фразы ансамбля жрецов и их главы Аминахара то чередуются с гневными репликами и горестными стенаниями народа, то контрапунктически наслаиваются, образуя густую полифоническую ткань66. Тема, обычно именуемая темой Аминахара, фактически не принадлежит лично ему – он выступает в роли корифея хора жрецов, далее же вместе с "роковым" мотивом воззвания к жестокому богу и их синтетическим вариантом – "темой жертвы" – разрабатывается хорами и оркестром, в том числе военным, пронизывая почти всю картину вплоть до выхода Саламбо (пример 91 а, б, в). Народный хор «'Лейтесь, лейтесь слезы горькие" (как и заключительный хорик обреченных детей) близок русской протяжной крестьянской песне, а слова эти мы встретим в партии Юродивого (пример 92). Но вот разразилась и пронеслась гроза (ремарки "Народ в ужасе", "повергается ниц в беспорядке на землю", "раскаты грома менее сильны. Начинает проясневать"). Аминахар повелительно возглашает: "Славьте Молоха!" Вскоре после эпизода торжественного славления намечается полная смена материала: Саламбо решилась на подвиг, она пойдет в стан врага, своими ласками околдует Мато и вернет городу священный заимф; изумленный ее отвагой народ молит Таниту о покровительстве.
В сохранившихся больших и малых, клавирных и партитурных фрагментах рассеяно множество находок, интереснейших деталей. Прекрасен, например, жалобный детский плач, любопытны quasi-колокольные аккорды крупными длительностями в сцене похищения заимфа (ц. 50 – Саламбо увидела заимф на плечах Мато, ц. 58 – бьет в сигнальный щит). Но в целом язык Мусоргского, особенно гармонический, здесь неизмеримо традиционнее, чем в хронологически соседних песнях – тонико-доминантовые и прерванные кадансы с остановкой на VI ступени, нередкие последования S – T46 – D – T. Разумеется, то было художественным компромиссом, уступкой "оперности", которые автор отчетливо сознавал, как, надо думать, сознавал драматургические и стилистические неровности, неспаянность отдельных кусков, некие отголоски "мейерберовщины". Вероятно, это и было главной причиной того, что он бросил долго вынашиваемое сочинение. Усугубляла чувство неудовлетворенности и невозможность постигнуть подлинный дух людей и быта древнего Карфагена, без чего немыслима необходимая Мусоргскому правда характеров, правда воплощения сюжета, а условно декоративный, "костюмированный" Восток ему претил67. Естественность использования тематизма "Саламбо" в "Борисе Годунове" объясняется как раз наличием своего рода "русского акцента", по-русски углубленного психологизма.
П. А. Ламм предпослал изданию клавира подробную опись дальнейшей судьбы отрывков оперы. Не приводя эту опись полностью, напомним основное. Известно, что тема бедствий, сурового возмездия, впервые появляющаяся у Аминахара, передана царю Борису ("Тяжка десница грозного судии"). Моление Таните (ц. 15 – 16) переработано в прощание Бориса с сыном ("С горней, неприступной высоты…"), приговор пентархов мятежнику – в приговоре бояр Лжедимитрию, заимствованы даже "клевки" оркестра; оркестровая партия вступления к эпизоду зачтения приговора прямо совпадает с началом картины в боярской думе. Восторженный порыв Мато, который подслушал хоровой гимн жриц, свиты Саламбо ("Вы, звуки чистые любви неугасимой, в моей истерзанной душе силу страсти пробудили") непосредственно готовит музыку любовных мук Самозванца ("Ты ранишь сердце мне, жестокая Марина"). Немало и заимствований мелких, драматургически не столь значительных: например, славление Молоха превратилось в славление "царевича" Димитрия, проклятия Саламбо похитителю заимфа – в выкрики Варлаама и Мисаила, подстрекающих народ расправиться с иезуитами; из предсмертной арии Мато извлечены интонации для партии Шуйского в боярской думе и речей Рангони. (Как уже говорилось, Боевая песня ливийцев стала хором "Иисус Навин", для середины которого было переработано ариозо Мато "Я умру одинок".)
Таким образом, материалы "Саламбо" послужили богатым тематическим запасником "Бориса Годунова" и во многом обеспечили быстроту его создания. Каратыгин, отметив техническую небезупречность, справедливо писал о "громадной стихийной силе и яркости", порою достигаемых здесь композитором (74, 44), Г. Хубов – что «изображаемая в опере борьба африканских племен… против "жадных тиранов" Карфагена упрямо ассоциировалась в сознании Мусоргского с борьбой обездоленного народа его родины» и, быть может, «интуиция подсказывала Мусоргскому, что он сочиняет музыку для другой, еще неведомой ему оперы… Во всяком случае, именно эта работа убеждала его в том, что для осуществления "оперного идеала" необходима коренная реформа, а чтобы осуществить ее, нужны новые поиски, новые опыты » (275, 222).
Наиболее капитальное творение 1867 года (не считая нескольких превосходных песен, к которым, помимо упоминавшихся, надо добавить "По грибы" на слова Мея, "Пирушку" и "По-над Доном сад цветет" на слова Кольцова, "светскую сказочку" "Козел" на собственный текст и "Стрекотунью-белобоку", скомпонованную из двух стихотворений Пушкина) – конечно же, "Ночь на Лысой горе".
Тематика колдовства, дьявольской фантастики рано заинтересовала Мусоргского. Еще в 1858 году он подумывал об опере по повести Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала" (263, 73)68. Два года спустя проектируется произведение с сюжетом, в основных чертах близким окончательной программе: «…полное действие на Лысой горе (из драмы Менгдена "Ведьма")… шабаш ведьм, отдельные эпизоды колдунов, марш торжественный всей этой дряни, финал – слава шабашу, который у Менгдена олицетворен в повелителе всего праздника на Лысой горе. Либретто очень хорошее»69. Весной 1866 года, находясь под впечатлением только что опубликованной книги М. Хотинско о чародействе и листовского "Danse macabre", сообщает Балакиреву: "Ведьм начал набрасывать – в чертях заколодило – поезд меня не удовлетворяет еще"70, через четыре месяца: "…жажду потолковать с Вами о ведьмах"71. Следовательно, скорому созданию беловой партитуры предшествовал ряд этапов, образы созревали постепенно, в течение нескольких лет.
Завершив партитуру 23 июня в деревне Минкино, Мусоргский делится радостью с Корсаковым и Никольским, подробно излагает программу музыкальной картины, особенности ее замысла. Корсакову он говорит, что "складом шабаша" его настроила книга Хотинского, где "очень наглядно описан шабаш ведьм по показаниям подсудимой, обвиненной в ведовстве и сознавшейся в амурных проделках с самим Сатаной …это произошло в XVI веке". "План и форма сочинения довольно самобытны… Форма разбросанных вариаций и перекличек, думаю, самая подходящая к подобной кутерьме. Общий характер вещи жаркий, длиннот нет, связи плотны, без немецких подходов…"72. Никольскому: «…для меня важная статья – верное воспроизведение народной фантазии… Я что-то много болтаю о своей "Ночи", но это, полагаю, происходит от той причины, что я вижу в моей греховной шалости самобытное русское произведение, не навеянное германским глубокомыслием и рутиной, а как "Савишна" вылившееся на родных полях и вскормленное русским хлебом » 73.
Композитор был вправе ликовать и гордиться, считать "Ночь" российски самобытной. Необыкновенно яркий и свежий тематизм развивается необычными, неизвестными музыке XIX века приемами. Это не просто "разбросанные вариации", но лавина мотивов-вариантов, которые кроме тональности, тембра и фактуры непрерывно меняют свои контуры и ритм, порядок чередования, дробятся, то взаимно сближаясь, от отдаляясь. Еще интродукция содержит комплекс мотивных микроэлементов, впоследствии неоднократно используемых: громкие, сверлящие триоли струнных, трели большой и малой флейт, угловатые шаги в низком регистре, стремительные взлеты к ладово диссонирующему звуку ми-бемоль. Явлению "роковой" темы тромбонов и тубы, не столько конкретными интонациями, сколько образной сутью родственной эпиграфу картины "Капище Молоха" из "Саламбо" (пример 93), сопутствуют малосекундовое остинатное долбление восьмыми, визгливые хроматизированные пассажи, они порой расширяются, захватывают разные группы оркестра. Новая, плясовая тема74, долго развиваемая, которая станет рефреном произведения, сразу подвергается интенсивному варьированию (пример 94 а, б, в). Согласно программе, начальный раздел рисует Сбор ведьм, их толки и сплетни, второй (ц. 7, си-бемоль мажор) – Поезд Сатаны. Тут, помимо марша (где Мусоргский хотел избегнуть "маршеобразных" клише), мы находим мотивы, знакомые по первому разделу, в том числе взвизги деревянных, трели, долбления и т. д.; потом возникает еще одна самостоятельная тема плясового характера (пример 95). Поганая Слава Сатане свободно комбинирует элементы двух предыдущих разделов75. Наиболее новы целотонные гаммы крупными длительностями, расходящиеся в разные стороны, непосредственное сопоставление тетрахордов целотонных, диатонических и хроматических. В Шабаше (Piu vivo, ц. 16) поначалу господствуют упорные повторения серии вариантов первой "плясовой" темы, а итоговая кульминация построена на встречном целотонном движении оркестровых групп и осколках ритмически сжатой "роковой" темы, оглушительными аккордами (четыре форте!) выкрикиваемых всей массой деревянных.
Авторская партитура была впервые издана Г. В. Киркором в 1968 году, но до сих пор "Ночь на Лысой горе" чаще исполняется в редакции Римского-Корсакова76. Как рассказывает Николай Андреевич, фантазия эта у самого Мусоргского "претерпела многие метаморфозы" в процессе работы над коллективной "Младой" (для которой в 1872 году Мусоргский написал сцену Чернобога и служения Черному козлу), еще раз – в Сонном видении паробка для "Сорочинской ярмарки" (1880). Уверенно судить, какие именно замены и купюры внесены им самим, а какие – Корсаковым, нелегко и оттого, что летом 1878 года композитор, по словам Балакирева, взял свою партитуру, "чтобы ее переделать и пересочинить"77. Однако основная правка определенно принадлежит Корсакову.
Другим, "выпрямленным" оказался тональный, темповый и динамический план, даже состав тематизма, часть материала просто изъята, объем партитуры резко уменьшен (455 тактов вместо 550, несмотря на добавление 25 тактов из "Сорочинской"). В оригнале 1867 года "Ночь на Лысой горе" начинается fortissimo, теперь – pianissimo, педальная функция поручена не целой группе инструментов, а флейтам и гобоям: редактор экономит громкость ради эффекта дальнейшего нагнетания. Отсутствуют смелые целотоновые и хроматические встречные ходы, "роковая" и вторая танцевальная темы, очевидно, во имя композиционной симметрии, почти точно повторены. Венчает фантазию уже не бурная огнедышащая кода, а тихая, спокойная мелодия кларнета и флейты соло, окутанная тающими пассажами арфы, – обрамление Сна паробка.
Автор настоятельно подчеркивал "разбросанность" вариаций и перекличек, "горячий и беспорядочный" тон музыки. Вот эту-то разбросанность, беспорядочность Римский-Корсаков и старался сгладить, приспособив гениальное творение к восприятию своего времени.
Конец 60-х годов – период особо тесного контакта "кучкистов" с Даргомыжским. Они всячески поощряют хворого маэстро работать над "Каменным гостем" и с начала 1868 года регулярно собираются в его доме, где исполнялись все их новинки. Весной Мусоргский посвятил "великому учителю музыкальной правды" "Колыбельную Еремушки" и первый номер "Детской", прослушав который хозяин дома объявил: "Ну, этот заткнул меня за пояс" (193, 97).
Одобрение, атмосфера всеобщего творческого энтузиазма вдохновили Мусоргского, и он по примеру Даргомыжского решил создать оперу на неприкосновенный литературный текст78. Разумеется, омузыкалить бытовую прозу комедии Гоголя было неизмеримо труднее, нежели точеный пушкинский стих. Однако именно колоссальные трудности манили композитора. Приступив к "Женитьбе" 11 июня, 8 июля он завершил клавир четырех картин первого акта и, вернувшись в Петербург из деревни Шилово, показал друзьям.
«Все были поражены задачей Мусоргского, восхищались его характеристиками и многими речитативными фразами, недоумевали перед некоторыми аккордами и гармоническими последовательностями. При исполнении сам Мусоргский со свойственным ему неподражаемым талантом пел Подколесина, Алекс. Ник. – Феклу, Вельяминов – Степана… а в высшей степени заинтересованный Даргомыжский собственноручно выписал для себя партию Кочкарева и исполнял ее с увлечением… В. В. Стасов был в восторге. Даргомыжский говаривал, что композитор немножко далеко хватил. Балакирев и Кюи видели в "Женитьбе" только курьез с интересными декламационными моментами» (222, 83). Почти таким, как у Балакирева и Кюи, было мнение Бородина: "Вещь необычайная по курьезности и парадоксальности, полная новизны и местами большого юмору, но в целом – une chose manquee – невозможная в исполнении"79.
Обдумывая продолжение, Модест Петрович сообщает Корсакову: «2-е действие только в мыслях и планировке, сочинять еще нельзя, – рано! Терпение, а то впадешь в однообразие интонаций – самый страшный грех в капризной "Женитьбе"»80. В письме к Л. И. Шестаковой он назвал свою opera dialogue Рубиконом, клеткой "в которую я засажен, пока не приручусь, а там на волю"81. Но четырех картин оказалось достаточно, чтобы овладеть художественным воспроизведением человеческой речи во всех тончайших изгибах ее, стало быть, пора вырваться из "клетки". Позже он назовет "Женитьбу" этюдом для камерной пробы. «С большой сцены надобно, чтобы речи действующих, каждого по присущей ему природе, привычкам и "драматической неизбежности", рельефно передавались в аудиторию (курсив мой. – М. С.)»82.
Немало десятилетий ушло на кардинальную переоценку "Женитьбы". Каратыгин первым обнаружил в ней своеобразную целостность формы, стройность и законченность. Асафьев, уловив "жестовость" характеристик, счел эту "жестовость" внешней, "мелочно-придирчивой", а в рецензии на постановку Театром музыкальной драмы говорит о "предумышленно-насильственном" пути, избранном Мусоргским, акцентирует наивность "подхода к взаимному совоплощению звука и слова… наконец, просто наивное построение звукоподражательных музыкальных представлений" (15, 146). Но могла ли – и должна ли! – музыка быть вовсе чуждой "мелочной придирчивости"? Ведь Мусоргский хотел очертить "те перемены интонации, которые являются в действующих лицах во время диалога, по-видимому, от самых пустых причин, от самых незначительных слов, в чем и таится, мне кажется, сила гоголевского юмора" (курсив мой. – М. С.)83.
"Женитьба" имеет и строго продуманную систему лейтмотивов, и достаточно ясную планировку. Лейтмотивы служат микроскопическими рефренами, иногда сквозными, иногда местными (в пределах сцены или эпизода), причем повторность буквальная соседствует с вариантной изменчивостью. Отсюда – сочетание "местной" рондальности, вариантности малых ячеек со специфической рондальностью и репризностью в крупном плане, возникновение подобия трех- и пятичастных форм.
"Капризная", дробная вокальная декламация способствовала необычному возрастанию объединительной, структурной (а отнюдь не только сугубо изобразительной, иллюстративной) функции инструментальной ткани.
Например, главная инструментальная тема Подколесина, рисующая солидность, напускное глубокомыслие и в то же время лень, нерешительность, проходит через все сцены (пример 96).
Начальный двутакт уже в первой сцене, помимо участков quasi-разработочных, звучит еще трижды: ц. 2 – обрамление экспозиции образа, ц. 15 – перед "монологом о фраке" и ц. 23, одноголосно – Подколесин раздумывает о хлопотах, сулимых женитьбой. Во второй сцене его почти вытесняет новый, как бы бодрящий пунктирный мотивчик, который ранее сопровождал назойливые расспросы, адресованные слуге Степану ("Ну, а не спрашивал, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?" и т. п.), однако он возвращается, когда герой, утомленный болтовней свахи, вяло говорит: "Подумаем, подумаем, матушка". В третьей сцене – трижды, хотя только один, первый раз полностью (Подколесин входит с зеркалом в руках, высматривая седой волос). В четвертой сцене можно насчитать до пяти реминисценций, самая точная – утвердительный ответ на укоризны Кочкарева "лежишь, как байбак, весь день на боку!"; между ц. 85 – 87 есть нечто вроде разработочной зоны: Подколесин опять колеблется, тритоны и септимы растерянно блуждают вверх и вниз. Теперь ожил второй двутакт лейттемы, обычно опускаемый, его выразительно-изобразительное назначение расшифровано ремаркой: "Потягивается и зевает". Последнее, унисонное проведение начального двутакта сломано. Замерший было у выхода Подколесин поддался натиску приятеля и "отважно" шагает к дверям, под занавес сопутствуствуемый пунктирным мотивчиком. Кстати, предполагалось развить этот коротенький мотив. "…Приобрел для Подколесина очень удачную оркестровую фразу… Это, как видите, fragment темки, вся целиком она явится в момент формального сватовства в третьем действии, когда уже Подколесин решился жениться", – сообщает Мусоргский Цезарю Кюи (пример 97)84.
Мы проследили сквозные миграции элементов характеристики героя с целью доказать структурную и семантическую плотность инструментальной партии. Но лейтмотивами наделены все персонажи85. Любая сцена многосоставна, обладает своей внутренней логикой, а также и своими сцеплениями с прочими сценами.
Например, яркий рефрен первой сцены – звуковысотно неподвижный лейтмотив неповоротливого и несловоохотливого Степана; его сердят бесконечные вызовы и вздорные разглагольствования хозяина, он приходит и уходит, будто угрюмо переваливаясь с ноги на ногу (пример 98).
Стабилизуют ткань не определенные тональные центры, а звуковысотное положение фразы, попевки, даже гармонические комплекса, отдельные аккорды. Основная тема Подколесина в большинстве случаев сохраняет опору на звук до, но иногда сдвигается, начинаясь с соль, фа в первой сцене, с ми и ля – во второй, где она "настраивается" на тональность явления Феклы и ее лейтмотива, цементирующего сцену (пример 99).
Аккомпанемент свахиного монолога-скороговорки не столь изобилует характеристическими деталями, они здесь и не нужны. Лишь по окончании монолога дробность восстанавливается, причем лейтмотив жеманных приседаний, поклонов трансформирован в неторопливый, сладостно-томный: Фекла расхваливает красоту невесты.
Явлению шумливого, неугомонного Кочкарева (ремарка "Стремительно вбегает") соответствуют стремительные, бурные пассажи, форшлаги, "прыгающий" сбивчивый ритм. Нагло выпроводив Феклу, Кочкарев берет сватовство в свои руки и соблазняет Подколесина идиллией брачной жизни – ласки прелестной супруги, орава детишек ("экспедиторчонки, этакие канальчонки"), как две капли воды похожих на папеньку86. Тут неоднократно всплывает, свободно секвенцируется "сладостная" трансформация лейтмотива Феклы из второй сцены: мечта постепенно овладевает героем.
Эти портретные мини-зарисовки удивительно рельефны, изобретательны, контрастны, но воспринимаются они так остро в немалой мере благодаря сочетанию с необычайно мобильным, изменчивым вокальным пластом, где нет лейтмотивов, даже микроскопических, а лишь нечто вроде "лейтинтервалов состояния": обильные тритоны Подколесина (впрочем, частые и у других персонажей), восклицательные "ударные" септимы (Кочкарев, ц. 56, два такта до ц. 88; Фекла, один такт после ц. 72 и два такта после ц. 73), "успокоительные" терцовые или секстовые обороты свахи, "неуверенные", возбужденные или вкрадчивые хроматические ходы (Фекла, три такта после ц. 69) и т. д.
Пласт вокальный и крайне нестабилен, и тончайшими, еле уловимыми нитями связан с инструментальным, по сути дела он почти автономен. Правда, относительно стабильные островки изредка попадаются во фрагментах монологических (рассказ Феклы о приданом, Кочкарева – о семейной идиллии); в диалогах, при быстром обмене репликами могут возникнуть продиктованные текстом интонационные повторы, перехваты попевок и интервалов, прямые и вариантные, согласно разнице настроения и характеров персонажей. Так, ворчливые реплики Степана иногда обращенно, в "перевернутом" виде имитируют интервальное зерно вопросов Подколесина, Кочкарев перенимает речитацию Феклы (Ц. 67 – 68), Подколесин – интонации быстрой, настойчивой речи Кочкарева (ср. ц. 90 и 92 – 93), хотя темп вдвое замедлен.
Перед нами некая антитеза традиционному толкованию лейтмотивного принципа. Если оперный оркестр и оказывался источником тематизма, сквозных символов (Вагнер), фиксировал процессы эмоциональные или рисовал пейзажный фон, среду, то у Мусоргского инструментальный мотив есть сгусток, вбирающий и эмоционально-психологическую доминанту действующего лица, и его характерную пластику, внешние повадки. Давно замечено, что Мусоргский "видит" сценическое действие глазом режиссера, одновременно как актер переживая, "читая" и мимируя текст, о чем дополнительно свидетельствует огромное количество "режиссирующих" ремарок, "актерских" подсказок певцам. Подобное мы встречаем только в музыке XX века, в операх Прокофьева, например.
Эволюция оперного искусства нашего столетия убеждает, что "предерзостная" "Женитьба" была гениально смелым прозрением в будущее. Ее находки, безусловно, оплодотворили последующее творчество композитора, хотя непосредственно продолжит их пожалуй, разве лишь "Детская".
Что позволяет сравнивать столь несходные произведения, как нарочито обыденная, суховатая "Женитьба" и поэтичнейшая "Детская"? Не прозаический текст, тем более что в "Детской" он зачастую ритмизован наподобие стихового метра, и не хронологическая близость (первый номер, "С няней", написан в апреле 1868, т. е. до "Женитьбы"), но исключительная отзывчивость музыкальной ткани на речь, жесты и мимику маленьких героев, слияние психологической характерности и предметной изобразительности каждой реплики, каждой паузы и каждого аккорда. Партия голоса несравненно мягче, теплее, мелодически насыщеннее, чем в "Женитьбе", фактура консонантнее, устойчивее в рамках номера, прямее ориентирована на какую-либо жанровую модель – сказ-повествование ("С няней"), скерцо ("Жук" и "Кот Матрос", скерцо-галоп "Поехал на палочке"), колыбельная ("С куклой"), молитва ("На сон грядущий"). Однако везде это диалог, везде зримо или незримо присутствует собеседник, к которому дитя обращается с просьбами, вопросами, жалобами (или приказом: "Бай, бай, Тяпа!") – нянюшка, мама, ребята, перед которыми лихо гарцует "наездник", то есть театрализованная сценка.
О театральной природе камерных вокальных сочинений Мусоргского пишут ныне многие авторы (см. 52, 124–146). Рано угадал ее В. Гартман: он уверял постоянно, что „Детская" мало того, что громадно талантлива, но есть ряд истинных сцен, и постоянно советовал исполнять их в декламации талантливой молоденькой актрисы или певицы, в костюмах и среди декораций (247, 112). Дебюсси поразила неповторимая задушевность, правдивость и свежесть. "Никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и большей глубиной… Никогда еще столь утонченное восприятие не воплощалось столь простыми средствами выражения!.. Все спаяно и складывается из последовательности легких штрихов, соединенных таинственными узами и даром лучезарной творческой проницательности" (49, 17).
Простота? Французским композиторам начала XX столетия музыкальный язык цикла мог казаться совсем простым, но он еще не был таковым для XIX века. Действительно, самые волнующие, "страшные" моменты переданы средствами довольно элементарными: доминантсептаккорд с пониженной квинтой ("буку страшного", № 1) или с задержанной малой ноной ("испугался я!", № 3), увеличенные трезвучия и уменьшенные септаккорды – правда, обычно на альтерированных ступенях87. Ошеломляюще нова прихотливо-мозаичная композиция миниатюр, мгновенны переходы настроения, обилие конкретно-живописных деталей (форшлаги хромого царя, "спотыкающиеся" о большие секунды, громкое чиханье царицы и т. п.). Суть в том, что Мусоргский гениально запечатлел специфические свойства детской психики, детского мировосприятия – импульсивность реакций, эмоциональность, не контролируемая "взрослой" рациональной логикой, способность видеть чудо, поэтизировать любое жизненное явление, талант игры. Кстати, именно Мусоргский первым начал разрабатывать детский фольклор88, и кое-где здесь проглядывают ритмоинтонации жанров скороговорки-прибаутки ("Я играл там на песочке"; "Из лучиночек кленовых") или дразнилки ("У няни носик-то запачканный").
4
В конце августа 1868 года, воротясь в Петербург из деревни Шилово, куда переехала на жительство семья брата, Мусоргский рисковал остаться без крова: денег нанять комнату не было. К счастью, старинные друзья А. П. и Н. П. Опочинины приютили его в своей просторной казенной квартире, где он провел около трех лет, до мая 1871. В этом высокоинтеллигентном доме Мусоргского приняли как близкого родственника, окружили теплом, семейной обстановкой и умели ценить как композитора. После смерти Даргомыжского (который, по словам Стасова, успел с восторгом прослушать Пролог и сцену "В корчме") "музыкальная компания" собирается то у Л. И. Шестаковой, то у Стасова, то у Пургольд. Но Мусоргский уже весь поглощен "Борисом". Начатая в сентябре 1868 года, опера работается невероятно быстро, увлеченно, 15 декабря 1869 готовы и клавираусцуг, и партитура.
Гораздо больший срок понадобился для того, чтобы, преодолев многочисленные препятствия и цензурные мытарства, "Борис Годунов", дважды забракованный комитетом Мариинского театра – позорная эта история, как и перипетии борьбы поклонников, пропагандистов оперы хорошо известна, и мы ее опускаем – наконец увидел свет: премьера состоялась 24 января 1874 года. Однако увидела свет новая версия. Композитор учел претензию комитета относительно недостатка "женского элемента", добавил две картины польского акта (клавир – весна и лето 1871 года, партитура – начало 1872 года) 89, а вместе с тем пошел наперекор неодобрению, вызванному обилием хоров, поскольку картина "Под Кромами" (партитура – июнь 1872) способствовала дополнительному укрупнению массовой, народно-хоровой линии.
Так возникли две разные, вполне самостоятельные редакции "Бориса" – 1869 и 1872 годов. Ряд авторов (в том числе В. М. Беляев и Б. В. Асафьев в статьях 1920-х годов) находил первую редакцию более стройной и цельной благодаря ее компактности, сосредоточенности на драме главного героя, другие доказывают явные преимущества второй. Мусоргский основательно переработал и текст, сохраненный из первой. Принципиально важных изменений множество. Например, совершенно иной план приобрела "Сцена в тереме". Помимо драматургически не столь необходимых Игры в хлест, Песни про комара, сочиненных по совету Стасова ради усиления локально-бытового колорита, сюда введена реприза курантов, придающая особую экспрессию сцене галлюцинаций; монолог "Достиг я высшей власти" фактически написан заново: вместо воспоминаний о своих тщетных попытках облагодетельствовать народ, сетований на вздорную клевету зазвучал мотив горьких раскаяний ("Тяжка десница высшего судии, ужасен приговор душе преступной"), а последний раздел – видение "окровавленного" дитяти – непосредственно предваряет эпизод галлюцинаций. Рассказ Феодора о попиньке, прерывая мрачные думы Бориса, ярко контрастирует подавленному состоянию царя и сцене диалога с Шуйским, драматическая напряженность которой резко обострена. В "Сцене в келье" появились закулисные молитвенные хоры монахов, оттеняющие и величавую фигуру Пимена и смятение Григория.
Увеличение масштабов второй редакции вынудило автора сократить часть прежнего текста. Здесь выпали гениальная картина – "У Василия Блаженного" (песня Юродивого перенесена в финал "Кром"), изъяты повествование Пимена об угличском убийстве, чтение царского указа Щелкаловым ("Грановитая палата"); первая картина Пролога обрывается на хоре калик: купирован блистательный эпизод недоумения толпы, распоряжение Пристава и оркестровая кода.
Мы рассматриваем оперу по изданию П. А. Ламма (М., 1928), где опубликованы обе версии. Но польский акт, хотя и содержит немало превосходной музыки, сильно расширяет и углубляет характеристику Самозванца (а помимо того крайне выгоден в чисто театральном, постановочном смысле), концепционно все-таки наименее значителен и будет затронут сравнительно бегло.
«Третье действие, или так называемый "польский акт", в сущности является декоративным интермеццо», – утверждал Б. В. Асафьев. Правда, написаны эти строки в 1928 году, когда ученый старался подчеркнуть драматургические достоинства первой редакции перед второй, "уделяющей слишком много внимания Борису – человеку с больной совестью, а не царю Борису, в переживаниях которого как в фокусе, собраны лучи-нити, идущие от динамического центра всего действия: от народного недовольства, неуклонно клонящегося к страшному анархическому бунту" (13, 3, 96).
Сцены "Уборная Марины Мнишек в Сандомирском замке" и "У фонтана" среди окружающих картин и впрямь выглядят несколько "декоративными", несвободными от привкуса традиционной оперности. Рецензенты спектакля дружно бранили партию аббата Рангони, который является главной движущей пружиной политической интриги. Бранили за чересчур откровенное сходство с демоническими персонажами популярных западноевропейских опер – Каспаром из "Волшебного стрелка" Вебера, Мефистофелем из "Фауста" Гуно, Бертрамом из "Роберта-Дьявола" Мейербера, бранили за фальшь и ходульность (Г. А. Ларош). Польскому акту вообще свойствен нарядный романтический колорит; романтизирован, слегка приподнят и облагорожен здесь и Самозванец.
Создавая эти сцены, Мусоргский руководствовался методом конфликтного протипоставления национальных музыкальных сфер, разработанным еще Глинкой в "Жизни за царя", и, опять-таки вслед Глинке, характеристику польского лагеря строит в основном на танцевальных ритмоинтонациях. Лейтжанр Марины – горделивая мазурка; грациозный хор девушек, которые пытаются развлечь капризную, скучающую госпожу, идет в двудольном метре краковяка, бал в замке Мнишков – бравурный полонез. Заметим попутно, что метод воплощения чужеземного, враждебного или сказочно-фантастического мира через танец оказался особенно полезным русской эпической опере с ее неторопливым пульсом действия и монументальностью пропорций.
Однако введение польского акта отнюдь не было простой уступкой требованиям театральной дирекции. В. В. Стасов вспоминает, что автор лишь снова взялся за сцену у фонтана "великолепные материалы для которой, уже давно прежде почти совершенно готовые, бог знает почему, были им заброшены" (193, 44).
И если принять на веру тезис Римского-Корсакова о наличии в Творчестве Мусоргского неких полярных стилей – "реального" и "идеального" (к последнему Николай Андреевич отнес "фразы самозванца у фонтана", заимствованные в неоконченной опере "Саламбо"), то дивная кантилена любовного объяснения Лжедимитри с Мариной позволяет без колебаний считать их сцену прекраснейшей жемчужиной музыки "идеальной". А соседство роскошной, упоительной неги этого дуэта и сумрачного, сурового начала следующей картины ("Грановитая палата") – один из наиболее резких драматургических контрастов всей оперы.
О "Борисе Годунове" написано едва ли не больше, чем об остальных, даже вместе взятых творениях Мусоргского, как родине, так и за рубежом. Это и естественно. Не декларируя оперной реформы, композитор, в сущности, произвел реформу, не уступающую вагнеровской, а для России – и более перспективную. "Борис" соединил в себе дотоле несоединимое. В те времена опера еще не покушалась пристально анализировать внутренний мир крупной реальной личности, то есть сделаться в полном смысл слова психологической драмой, а не драмой любви, ревности, насильственной разлуки; образом мудрого, озабоченного благом государства, но ценой злодеяния взошедшего на престол царя, трогательно любящего своих детей, грозного властителя, терзаемого муками совести, Мусоргский дал некий эталон психологизма. Народ, который обычно выступал если не в качестве колоритного бытового фона, то как хор, ведомый протагонистом, стал равноправным героем, участником и творцом исторических событий, не заслоняя, а мотивируя и обостряя драму центрального героя. Линии психологическая и эпико-трагедийная нераздельны, переплетаются с линией бытописательной, элементами комедийно-юмористическими, опять-таки неотъемлемо включенными в развитие драмы и характеристику народа. Самая бытовая, богатая сатирическими штрихами "Сцена в корчме" изнутри пронизана тревогой Григория Отрепьева; Юродивый, который символизирует и совесть, и горе народное, появляется в сопровождении веселой ватаги мальчишек; за глубокомысленно-скорбным монологом Щелкалова и шествием "Божьих людей", калик, следует забавный эпизод обмена репликами Митюхи и хоровых групп. Эти контрасты, контрапункты и переключения создают особую драматургическую вибрацию, стереофоническую многоплановость музыкального действия.
Бесспорно, композитором надежно руководил пушкинский гений, порою скупыми намеками, ремарками распахивал необозримые горизонты ассоциаций и подтекстов. Но Мусоргский не довольствуется раскрытием намеков, уменьшением количества сцен, необходимым при переделке пьесы в оперное либретто, активной правкой текста, ритмизацией прозы. Решительно сократив показ боярских интриг, он многое добавляет от себя, сочиняет текст мелких реплик и важнейших эпизодов (например, сцены галлюцинаций), всего пятого акта.
Знаменитая формула "Я разумею народ как великую личность, одушевленную единою идеею", пожалуй, больше говорит о конечной цели, нежели о конкретных средствах, которыми цель будет реализована. Ведь толпа, согнанная молить Бориса взять власть, и та, что славит "царя-батюшку" в картине коронования, голодная, стонущая "Хлеба! Хлеба!", и клокочущая, яростная масса картины "Под Кромами", обуреваемы неодинаковыми побуждениями, да и складывается народ из разных, ярко индивидуализированных фигур, социальных групп: беднота города и предместий, нищие слепцы, беглые монахи, бродяги, крепостные, возненавидевшие жестокого боярина… В картине "Под Кромами" народ сливается в могучую коллективную силу, но и здесь отчасти сохранен принцип дифференциации.
Общераспространенный для русской оперы прием характеристики народа через хоровую или сольную фольклорно-цитатную песню, понятно, использован и в "Борисе", хотя Мусоргский, как правило, предпочитает брать не мелодию, а слова. Жанровая определенность текста благодаря необыкновенно цепкой памяти композитора (и тяготению кучкистов, во главе с Балакиревым, к собиранию фольклора) являлась хорошим "компасом" в процессе сочинения собственной музыки в фольклорном духе, метроритм стиха задавал структурную канву мелодии, и зачастую музыка почти неотличима от подлинников (песня Шинкарки)90. Порою жанр оригинала свободно переосмыслен в зависимости от ситуации и нового предназначения: лирическая "Что не ястреб совыкался со кукушкою" стала насмешливо-издевательской, свадебная "Звонили звоны" – сонными, отрывочными фразами пьяного Варлаама "Как едет ён…", былина "Жил Святослав девяносто лет", записанная Мусоргским от олонецкого сказителя Т. Рябинина, превратилась в экзальтированно-энергичный напев, который в устах Варлаама и Мисаила ("Солнце, луна померкнули") звучит "подобно боевому гимну, призыву к восстанию" (46, 84).
Интересно, кстати, что этот их "боевой гимн" исподволь связан с притворно-смиренным выходом в картине "В корчме" (ц. 10 и 45 – жалобные ответы приставам) и с хором калик; сольная, крупно экспонирующая фигуру Варлаама песня про Казань, согласно повествовательной природе текста развернутая в цепь красочных вариаций-куплетов, тонально и интонационно перекликается с крайними разделами трехчастного хора "Расходилась, разгулялась". Варлаам – и рельефная индивидуальность, и некий корифей бунтующей массы, подстрекатель мятежа. А тональная арка, всегда значимая у Мусоргского, помогает скрепить композицию оперы.
Фольклорными интонациями насыщены многие участки оркестровой ткани и сольные партии; особенно отчетливо восходят к народным прототипам плач Ксении и песня Юродивого, которая синтезирует жанры плача-причитания и колыбельной. Этот аспект музыкальных характеристик исследован достаточно глубоко. Напротив, далеко не достаточно изучены связи с пластом церковным и околоцерковным. Эпизоды такого рода по инерции долго рассматривались как фоновые, призванные только усилить достоверность колорита эпохи. Между тем если закулисный хор отшельников Чудова монастыря еще в какой-то мере действительно является фоновым (не совсем, ибо текст – например, строка "Боже, Боже мой, вскую оставил мя!" – комментирует пробуждающиеся "бесовские" мечтания Григория), то и околоцерковному калик, и церковному хору схимы принадлежит чрезвычайно существенная роль (примеры 100 а, 100 б).
Наблюдения касательно данных пластов "Бориса Годунова" в работах о Мусоргском мимолетны и разрозненны. Б. В. Асафьев называет калик перехожих "глашатаями государственной религии", а их хор – "религиозно-утешительным" (13, 87, 80). Г. Н. Хубов предлагает несколько иную трактовку: "Мусоргский… показал в них мрачную силу, которою пользовались власть имущие для воздействия на сознание обездоленных масс" (курсив мой. – М. С.) (275, 430)91.
Р. К. Ширинян об этом хоре не пишет вообще. Она отметила только инструментальное проведение начальной фразы монашеского хора в первом монологе Бориса, перед словами "Теперь поклонимся почиющим властителям Руси", и "благостность интонаций… напоминающих интонации церковного пения" в реплике теноров и басов "Царя на Руси хотим поставить" (301, 86, 122)92. Но у оркестра на этих самых словах проскальзывает ладоинтонационное, ритмическое и фактурное предвестие хора калик, готовит его и фраза, заключающая ариозо Щелкалова ("И озарит небесным светом Бориса усталый дух!"), а в коронационном монологе Бориса встречается опосредованная реминисценция оттуда же ("И ниспошли ты мне священное на власть благословенье").
Возможно ли допустить, что хор калик понадобился лишь ради контраста, светлого блика? Нет, конечно, это опровергается уже его тематически узловым положением в первой картине Пролога, да и "выходом" во вторую картину. Драматургическая функция его всячески акцентирована: в оркестровой коде начальный мотив строфы "Облекайтесь в ризы светлые" чередуется с "зерном" вступления оперы – главного образа-символа многострадальной Руси93. И совершенно ясно, что композитор не видел в Каликах "мрачной", давящей силы. При жизни Мусоргского то был еще живой, бытующий слой народных культурно-исторических традиций, а следовательно – органически необходимая ему составная часть многоликой, тонко дифференцированной характеристики народной массы. Навеяно пение калик личным слуховым опытом: И. Е. Репин сообщает, что на крестинах его дочери Мусоргский "много припоминал хоров нищих… все это он сам пел" (196, 253).
Специфический, поистине ключевой смысл, смысл развязки драмы совести имеет хор схимы. Текст никак не соответствует канону обряда пострига царя в монахи. "Вижу младенца умирающа и рыдаю, плачу, мятется, трепещет он и к помощи взывает" – это не то, что реально могло и должно было звучать, а то, что мнится затуманенному, агонизирующему сознанию Бориса: призра к убитого малютки-царевича. Показательны ремарки композитора и короткие, взволнованные восклицания ("Боже! Боже! Тяжко мне? Ужель греха не замолю!"); когда процессия певчих, приблизившись к авансцене, фортиссимо, до-диез-минорными аккордами скандирует: "И нет е-му спа-се-нья", – слова эти грешника добивают94. Иначе говоря, перед нами некое продолжение сцены галлюцинаций, прием наплыва, внутренний голос героя.
И будто гласом небесного милосердия, отвечая последним мольбам царя ("Боже! Смерть! Прости меня!.. Простите… Простите…")» из глубоких басов оркестра crescendo поднимается лейттема благих намерений Бориса, чтобы истаять в безоблачном, "апофеозном" ре-бемоль мажоре (пример 101). Нетрудно узнать в ней очертания "темы жертвы" из "Саламбо", варианты-побеги которой неоднократно появляются в монологе из "Сцены в тереме" (ц. 44, 48, 49), сцене с Шуйским (ц. 88–89).
Мы подошли к вопросу о лейтмотивной системе оперы. Давно замечено, что единственный, наделенный простейшими признаками лейтмотива – лапидарность, частая повторяемость – лейтмотив связан с образом Димитрия. Но простейших путей Мусоргский не приемлет. Лейтмотив этот драматургически многозначен, он воплощает и несбывшиеся народные надежды на "доброго" правителя, и наглого авантюриста Отрепьева, и предмет горьких раскаяний царя, причем его протяженность и выразительная окраска меняются в зависимости от ситуации, от того, идет ли речь об убитом царевиче или о Самозванце. В первом случае дана короткая, как бы вопросительная фраза – таковы ее оркестровые проведения в картине "В келье" (рассказ Пимена, ц. 36 и 42, Григорий – ц. 49). Во втором случае добавляется утвердительная попевка ("Корчма", у фонтана, "Кромы"). В вокальную партию и целиком эта расширенная тема проникает только в момент, когда Шуйский, злорадствуя, открывает царю имя, присвоенное претендентом ("Терем", ц. 80). Борису известно, что настоящий царевич погиб, поэтому, хотя он истерически выкрикивает: "Кто говорит убийца? Убийцы нет! Жив, жив малютка" ("Боярская дума" ц. 27), – звучит тема Самозванца. Она же – в картине подле церкви Василия Блаженного, у оркестра, когда народ обсуждает анафему, пропетую якобы живому царевичу (ц. 13 и 14).
Колоссальная психологическая нагрузка, процессуальность партии Бориса, "обращенность в самосозерцание" обусловили ее строение в виде цепи монологов, своего рода "монодрамы, впаянной в широкое, многоплановое историческое действие" (301, 96). Эти конструктивно свободные ариозно-декламационные монологи имеют и собственный "фонд" сквозных, развивающихся лейттем, и в то же время втягивают в себя тематизм других персонажей. Например, в сцене галлюцинаций, в таинственных тремоло (ц. 100) слышатся очертания мотива Димитрия; Борис судорожным говорком (ремарка "Как бы отгоняя призрак") бормочет: "Не я… не я твой лиходей… чур, чур, дитя!.." Льстиво-плавные интонации Шуйского еще до его выхода звучат у Бориса ("Скажи, что рады видеть князя и ждем его беседы" – "Терем" ц. 56). Но совершены особое значение приобретают в партии Бориса средства ладогармонические.
Так, оборот I3–VI6–V6, которым открывается монолог "Скорбит душа", прекрасно выражает и суровость, величавую "скульптурную" пластику, и трагические предчувствия царя. Аналогичный оборот сопутствует Борису перед началом монолога "Достиг высшей власти" и перед коротким диалогом с Юродивым; в эпизоде прощания с Феодором (как и ранее – см. "Терем", ц. 42) осталась лишь мерная, траурная маршевая поступь и – что характерно для тонально-ассоциативного метода Мусоргского – возвратилась тональность до минор95.
Драматическим, "темным" тональностям Бориса – до минор, ля-бемоль (или соль-диез) минор противостоят нарочито спокойные, вкрадчивые до мажор, соль мажор, ля мажор, ми мажор Шуйского, умудренно светлый ре мажор лейтмотива Пимена, сохраняемый и в картине "Грановитой палаты" (где в наружно-бесстрастном рассказе об исцелении слепого пастуха господствует дорийский ля минор), простодушный ля минор Юродивого; лейттональность Марины Мнишек, дополненная лейтритмом мазурки, – ми минор.
Семантику, близкую лейтмотиву, в "Борисе Годунове" может получить гармонический комплекс. Таков большой мажорный септаккорд, который (в виде секундаккорда) появился в коронационном монологе на словах "сковал мне сердце", затем, в других обращениях – при упоминании о грехе царя Бориса ("Келья", рассказ Пимена: "Привел меня Господь увидеть злое дело"; Борис, картина "В тереме": "Я чувствовал, вся кровь мне кинулась в лицо" и т. д.). И не только гармония – интервал, интонация тритона. Это и праздничные колокола коронования – обращения двух доминантсептаккордов, основные виды которых находятся в тритоновом соотношении, и звон курантов – соль – до-диез (вторично ля – ре-диез), глухие удары погребального колокола схимы (до-диез – соль). Роковая символика тритона формируется постепенно, например, в "зазубренных" контурах басов оркестра fff во время рассказа Пимена ("Вот он, вот, вот злодей" – "Келья", ц. 39 и 40), в угрожающей мертвенности курантов – еще перед сценой галлюцинаций ("А там донос, бояр крамола, козни Литвы"; "Когда великое свершилось злодеянье…" – ц. 50 и 86). Таким образом, принцип характеристичности гармоний и интервалов, намеченный "Женитьбой", достиг гораздо более высокой обобщенности, интенсифицирована выразительно-смысловая значимость каждого подобного средства, а языково-стилистический контекст по контрасту усиливает их восприятие.
Завершение оперы "Кромами" было шагом огромной важности. Стихийный бунт, который пророчит новые "неслыханные мятежи", покорность новоявленному государю, плач Юродивого – все это дышало правдой истории и правдой остроактуальной. Юродивый, невзирая на скромные размеры своей роли, оказывается главным, самым прозорливым комментатором трагедии Руси, а по отношению к Борису – едва ли не главным антагонистом: беспредельная кротость, чистота, вещая мудрость придают ему черты иконописного облика, и недаром его музыка так проста, по-народному напевна.
Наличие двух авторских редакций, не говоря уже о редакциях Римского-Корсакова и Шостаковича (1963), выдвинуло ряд сложных проблем. Какая редакция лучше, допустим ли отбор, купюры96, является ли идеальной редакция Дэвида Ллойд-Джонса (1975) – проблемы, вокруг которых исследователи дискутируют и ныне. Т. А. Щербакова полагает, что и эту редакцию нельзя назвать текстологически безукоризненной, что она, подобно ламмовской, представляет собой известную контаминацию и необходимо повторное, тщательно выверенное издание "Бориса Годунова" (304). Обзор дискуссий и театральной практики не входит в задачи главы, немыслимо сколько-нибудь детально охватить здесь даже такие вопросы, как различие авторских вариантов, оркестровое новаторство оперы, "Борис Годунов" и фольклор, опера и пушкинская трагедия97. По этим вопросам мы отсылаем читателя к широко доступной русскоязычной литературе.
5
;Еще в мае 1870 года, кончив первую редакцию "Бориса", Мусоргский начинает штудировать разного рода исторические материалы, берет у Никольского труды по расколу ("История Выговской пустыни" И.Филиппова, "История раскола" И.Е.Троицкого), а едва успев завершить вторую редакцию, тотчас с головой погружaется в обдумывание "Хованщины". (Тогда-то, в июне 1872 года, он гневно говорит о "черноземе", "ковырнутом" орудием состава постороннего, сформулирует девиз "прошедшее в настоящем"). Тему оперы, как известно, подсказал Стасов, впрочем, она была вполне созвучна общему подъему интереса историков, писателей и художников к расколу, стрелецким бунтам: вскоре возникнут "Утро стрелецкой казни" и "Боярыня Морозова" Сурикова, "Никита Пустосвят" Перова, повесть "Великий раскол" Д. Мордовцева. Помогли этой вспышке пять томов Н. С. Тихонравова (1859–1863) который опубликовал массу старинных рукописей, в том числе "Житие протопопа Аввакума", и выход в свет капитальной "Истории России" С. М. Соловьева. Композитор внимательно изучал ее, но его абсолютно не устраивала соловьевская "государственная" позиция, не хотел он и довольствоваться поверхностным знакомством с источниками. "…Купаюсь в сведениях, голова, как котел, знай подкладывай в него. Желябужского, Крекшина, гр. Матвеева, Медведева, Щебальского и Семевского уже высосал; теперь посасываю Тихонравова, а там за Аввакума – на закуску"98. Среди упомянутых и современники, очевидцы бунта – Иван Желябужский, Сильвестр Медведев, сын Артамона Матвеева Андрей, и официальный летописец царствования Петра Крекшин, и позднейшие историки М. И. Семевский, П. К. Щебальский. Кроме того, Мусоргский читал многое другое ("Деяния Петра Великого" И. Голикова, "Путешествие в святую землю" священника Лукьянова и т. п.).
Он испытывал потребность вжиться в коллизии и характеры эпохи, как можно лучше усвоить ее дух и лексику. Ему ведь предстояла задача труднейшая: не составить либретто из какого-либо литературного оригинала, а совершенно самостоятельно сконструировать сюжет, фабулу, драматургически оправдать взаимоотношения действующих лиц. Стасов пробовал энергично вмешиваться в сценарий. Композитор искренне ценил его помощь и участие, однако далеко не все стасовские советы принимал, коль скоро они клонились к некоему "приземлению" фабулы и персонажей или увеличению количества локально-бытовых эпизодов. Замысел и без того чрезмерно разбухал, и отдельные эпизоды, почти созревшие, выбрасывались, например, целая картина в Немецкой слободе, игранная в кругу приятелей99, сцена лотереи. Выпали планировавшиеся ранее фигуры Петра и Софьи – они "не нужны были Мусоргскому для той драмы народа, которую он собирался воплотить в музыке" (272, 53). Именно "Хованщине" впервые дан подзаголовок народная музыкальная драма. Сочиняя либретто, Мусоргский сознательно допускает хронологические вольности. Им объединены события двух стрелецких бунтов – 1682 года, за который Хованский был казнен по приказу Софьи, и 1689, подавленного Петром; ссылка Голицына реально произошла чepeз семь лет после казни Хованского. Напротив, многие тексты документально достоверны: анонимный донос на Хованских, надпись на столбе, сооруженном стрельцами в честь своей победы, царской грамоты, дарующей милость раскаявшимся стрельцам, фрагменты писем Софьи и матери к князю Голицыну.
Судя по письму к Стасову, ряд замечательнейших страниц сложился до августа 1873 года: "любовное отпевание" Марфы ("Нравится всем без изъятия это любовное отпевание и даже мне самому нравится"), унисонный хор раскольников; оркестровое вступление оперы "почти готово, рассвет на восходе солнца красив, довел до того пункта, где донос диктуется, т. е. с маленькою сценкою Шакловитого и подьячего… Выработка идет изрядная, шесть раз отмеришь и один раз отрежешь: нельзя иначе, таково что-то внутри сидящее подталкивает на строгость"100.
Возросшая ли строгость к себе, нервное переутомление, переживания, связанные с "Борисом" (после триумфального приема публикой счастливая эйфория уступила место горькой обиде за шквал оскорбительных рецензий), или тяжелые личные потери – скоропостижная смерть Виктора Гартмана (июль 1873), смерть Н. П. Опочининой (июнь 1874), но композитор часто и надолго отвлекался от "Хованщины".
Стасов негодует: "…Он совершенно изменился… лицо у него разбухло и сделалось темно-багровым, глаза потухли, и он чуть не весь день торчит в Малом Ярославце … И притом он больше не хочет и не может работать по-прежнему. На что же он мне?!" 101 Приговор Владимира Васильевича, разумеется, несправедлив; вероятно, досаду на Мусоргского подогрело крушение упорных попыток Стасова увезти его в Веймар, к Листу, которого изумила и восхитила "Детская". Мечтал об этом и Мусоргский102, но в конце концов отказался – должен засесть за "Хованщину", потому что "приспело время", необходимы покой и сосредоточенность103.
В перерывах работы над "Хованщиной" очень быстро были написаны "Картинки с выставки" («Гартман кипит, как кипел "Борис" – звуки и мысли в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге» 104,"Без солнца" и "Забытый".
"Картинки с выставки" – одно из наиболее фундаментальных творений Мусоргского, ознаменовавшее открытие нового и для русской, и для всей мировой фортепианной музыки стиля и cтруктуры цикла, новой, чисто национальной образности. Доминируются в нем образы народно-песенные, косвенно перекликающиеся с хорами "Бориса" и "Хованщины". Так, "Прогулка" имеет интонации, сходные с величальной "Уж как на небе солнце ясное" и хором стрельцов "Ах, не было печали" из "Хованщины"; "Богатырские ворота" включают тему, близкую хору отшельников Чудова монастыря; "Быдло", несмотря на медленную, грузную, скорбную поступь, неуловимо сродни удалой "Расходилась, разгулялась". В иных пьесах сильнее ощущается влияние характеристических зарисовок "Детской" ("Тюильрийский сад", "Балет невылупившихся птенцов", "Рынок в Лиможе"), в иных – фантастики "Ночи на Лысой горе" ("Гном", "Избушка на курьих ножках"), в иных же – гармонического языка трагедийно-философских монологов Годунова (ср. "Катакомбы", такты 18 – 22, с партией Бориса – "Какой-то страх невольный зловещим предчувствием сковал мне сердце" и "О совесть лютая, как страшно ты караешь!"). При яркой контрастности соседних миниатюр, театральной зримости каждой, они крепко связаны проведениями темы Прогулки, которая гибко варьируется в кодах-интермедиях как бы под впечатлением очередной картинки, отражая реакцию наблюдателя, авторский комментарий ("Моя физиономия в интермедах видна", – писал Мусоргский Стасову). Не "прокомментированы" подобным способом только жанрово-юмористические сценки – № 3, 5, 7, фантастическая № 9, очевидно не возбудившие у автора глубокой эмоциональной реакции, и блистательный трагикомический диалог "Два еврея, богатый и бедный" (№ 6), но за ним идет самая полная, точная и на сей раз объявленная реприза "Прогулки". Интересно, кстати, что если обаятельная, слегка архаизированная романтика серенады трубадура, "Старый замок" словно отстраняется короткой увесистой мажорной интермедией, то "Быдло" вызывает печальное раздумье, переходящее в протест. "С мертвыми на мертвом языке" и "Богатырские ворота" являются двумя полярными метаморфозами лейттемы-рефрена: таинственной, будто окаменелой – и апофеозно-торжественной, окутанной малиновым перезвоном колоколов, прослоенной церковными песнопениями105.
Перед нами чрезвычайно свободно трактованная сюита, вбирающая черты рондообразной и вариантно-вариационной форм. В тональном плане преобладают плагальные и медиантовые соотношения – тональности IV минорной, II пониженной, минорной и мажорной, оба вида VII низкой, IV натуральная, которая и утверждается к концу на правах второго тонического центра.
Великолепный пианист (его сравнивали с самим Антоном Рубинштейном!) Мусоргский, конечно, сумел бы оснастить фактуру нарядными виртуозными пассажами, но он предпочел изложение, современникам казавшееся "нефортепианным", неудобным: плотное, массивное, а вместе с тем скупое, изобилующее оголенными унисонами, разрывами регистров, но и мастерски использующее необычно "колкую", прозрачную мелкую технику. От "Картинок с выставки" – прямая дорога к принципам музыкального мышления, формообразования и языку пианизма XX века, в первую очередь прокофьевского. И не случайно это сочинение завоевало концертную эстраду лишь много лет спустя после смерти композитора, причем популярность его немало стимулировала оркестровая транскрипция Мориса Равеля (1922).
Цикл "Без солнца" на стихи А. А. Голенищева-Kyryзова (который в эти годы сделался постоянным соавтором Мусоргского, им написаны тексты "Забытого" и "Песен и плясок смерти") некими нитями, прежде всего в сфере декламационной и ладовой, связан с вершинами предшествующего камерного вокального творчества, например "Ночью" и "Детской", а последний номер, "Над рекой" – с партией Марфы. Никогда еще у композитора жанр романса не приобретал столь личностно-исповедальный характер, никогда одиночество, испытываемое среди городской суеты, людей холодных и пустых, неспособных ответить на искреннее чувство (этот образ персонифицирован романсом "Скучай"), не воплощалось с такой жгучей остротой. «В немногих, как бы несвязных звуках выразить всю полноту душевной скорби одинокого человека, ночью "в четырех стенах" своей убогой комнаты раздумывающего о своем одиночестве, подслушать его же болезненно-страстные любовные мечты ночью, когда "окончен праздный шумный день" (любопытны в этой вещи блуждающие гармонии из секст и терций совершенно в духе Дебюсси), выследить тою же ночью… сонмы мрачных видений и "унылый смерти звон" ("Элегия"), которому вторят и другие вкрадчивые голоса призраков, реющих "над рекой", озаренной неверным светом месяца, и манящих бессолнечного человека обрести вечный покой в ее темных глубинах (каким-то колдовством, магнетическими чарами веет от упорной фигурированной педали на cis!) – таковы музыкально-психологические задачи, которые Мусоргскому удалось разрешить… с исключительной силой художественной убедительности» (73, 45–46)106. "Без солнца" – самое интимное по содержанию, самое "достоевское" по духу и самое "импрессионистское" по языку произведение композитора107. Но и здесь он выходит за пределы переживаний чисто субъективных: "Весь этот круг настроений был близок широким слоям разночинной интеллигенции середины 70-х годов. Мусоргский как бы объективирует выражение своих личных эмоций, придавая им смысл типического, общезначимого, социально характерного" (81, 163–164).
Э. Фрид тонко выявила в романе "Над рекой" ряд ладогармонических примеров и интонационных зерен, развитых в партии Mapфы. Однако, аргументируя это противопоставлением образа подлинной мощи и красоты "ненавистному, ущербному, лишенному духовности миру, который получил отражение в первых пяти номерах цикла"108, она слишком обособляет данный романс и не вполне справедливо трактует прочие. Относительно обособлен и действительно отражает начало бездуховное, "ущербное" только четвертый номер, "Скучай". Драматическую кульминацию третьего номера, "Окончен праздный шумный день", готовит мечтательно одухотворенный эпизод "Лишь тень одна, из всех теней, явилась мне, дыша любовью…"; в "Элегии" дважды вспыхивает экспрессивно-взволнованная речь-признание, речь-жалоба, где опевается родственный явлению "любимой тени" (и тактам 9–11 "Надгробного письма" памяти Н. П. Опочининой, сочинявшегося до "Элегии") малосекстовый оборот (пример 102 а, б).
Современники не оценили ни специфики "монологической" драматургии, ни смелых колористических находок этого цикла, символики аккордов-пятен, полифункциональных вертикальных наложений, перевода гармонии в гармоние-тембры. Стасов назвал его сочинением слабым, Бородин – "плодом чисто головного измышления" (211, вып. 2, 81), да и в советские годы цикл "Без солнца" долго сохранял репутацию некоего декадентски-упадочного эксперимента.
Думы о смерти все чаще овладевают Мусоргским. Имелись тому, конечно, поводы и личные, и общественные (политические казни, кровавое покорение Туркестана). Но вечная этико-философская проблема бытия – Жизнь и Смерть – рано или поздно встает перед каждым мыслящим художником. В "Борисе Годунове" Мусоргский уже встретился с этой великой тайной. Теперь, видимо, пришла пора выразить отношение к ней на материале разнообразных типических ситуаций.
Своего рода преамбулой "Песен и плясок смерти" явилась баллада "Забытый", навеянная полотном Верещагина109. И в поэзии, и в музыке баллада, как известно, подразумевает драматическое повествование, то есть сравнительную объемность, а Мусоргскому хватило двадцати семи тактов. Форму некоторые автор (Ю. Келдыш) считают двухчастной, принимая за контрастирующие части картину битвы и колыбельную матери, некоторые же (Г. Хубов) – "своеобразным триптихом", поскольку клекот воронья благодаря фактурному контрасту может быть принят за самостоятельный эпизод и масштабно равен первому110. Главное, конечно, – единство, достигаемое сквозным воинственным пунктирным ритмом марша, тональностью ми-бемоль минор, и двуплановость, образуемая вертикальным совмещением зловещей маршевой остинатной фигуры баса и нежного, тоскливого напева колыбельной. Лирический план, значительно углубляющий трагизм сценки, у Верещагина отсутствовал, потому особенно важно его введение в рамки предельно лаконичной баллады; заслугу вряд ли надо приписывать только Голенищеву-Кутузову, так как идея обычно исходила от композитора, который сам правил, переделывал голенищевские тексты, и, во всяком случае, именно музыка дала огромное "приращение смысла".
Сгущенность музыкального времени и пространства, сила эмоционального воздействия позволяют поставить "Забытого" в ряд крупных трагедийных произведений. А сложился этот опус во многом под влиянием заготовок "Хованщины", тенденции к большей простоте и лапидарности языка, к мелодии, "творимой говором человеческим".
Театральность мышления, присущая вокальному творчеству Мусоргского, достигает апогея в "Песнях и плясках смерти". На фоне гибридных жанров XX столетия (симфонизированный вокальный цикл, сценическая кантата и т. д.) они воспринимаются как нечто вполне современное: чисто современны оперирование аллегориями, метафорами, непринужденные переходы от иносказания к конкретной изобразительности, употребление первичных бытовых ритмоинтонационных формул, на основе которых вырастают гротескные гиперболы.
Единственным недостатком великолепного произведения Д. Д. Шостакович находил краткость: всего четыре песни. Но Мусоргским, Стасовым и Голенищевым-Кутузовым проектировалось немало других сюжетов (например, Богач, Пролетарий, Сановник, Царь, Купец и т. п.), к сожалению, неосуществленных. При этом драматургия, внутренняя структура каждой песни сложна, неповторима, как неповторимы жанровые ориентиры и способы их включения.
В "Колыбельной" колыбельность представлена лишь гипнотически-вкрадчивыми репликами Смерти, из однотактовых расширяющимися до двутактовых, когда и появляется припевка "Баюшки, баю, баю". Основное пространство, помимо фортепианной интродукции (ее сходство со вступлением к пятому акту "Хованщины" не раз констатировалось) и рассказа, который вводит в действие, занимает диалог. Фразы Матери трепетны, лихорадочно взволнованны (Agitato), уговаривания "сердобольной" Смерти медленны (Lento funesto), поначалу притворно участливы, однако странная, механическая монотонность интонаций, особенно баюканья, несет в себе ледяной холод (пример 103).
Так на протяжении 54-х тактов выстраивается контрастно-составная драматическая сцена, где есть и своего рода сублимированная "театральная декорация", зарисовка интерьера, и экспозиция персонажей-антагонистов, и конфликтное развитие, и трагическая развязка.
"Серенада", подобно другим песням цикла, имеет вступление-рассказ. Это опять краткое описание среды, ситуации, упоминание о смерти, поющей под окном безмолвной героини; но здесь безраздельно господствует образ волшебной весенней ночи: зыбкие, мерцающие гармонии окутывают вокальную мелодию и парят над ней.
В песне "неведомого рыцаря" меняется весь комплекс средств. Вместо неопределенного, "голубоватого" ми минора – "темный" ми-бемоль минор, вместо призрачной фактуры – тяжелозвонкая аккордовая поступь, чеканный ритм, маркированный акцентами на первой и четвертой долях такта, дублирование мелодии голоса аккомпанементом, что усиливает графическую жесткость контуров. Форма собственно серенады довольно традиционная, куплетно-строфическая, хотя куплеты подвергаются варьированию и предпоследняя строфа, модулирующая в соль-бемоль мажор, играет роль середины, эхо которой звучит в коде.
Допустив вольное, заведомо условное сравнение функции конфликтно-диалогической "Колыбельной" с сонатным allegro, a монологической "Серенады" – с центром лирики, "Трепак" можно истолковывать как скерцо, а "Полководца" как триумфальный финал. Только в этом карнавализованном "театре смерти" все вывернуто наизнанку111.
"Главной партией" первой части оказывается огротескованный, выхолощено-неживой колыбельный напев; лиричнейший жанр серенады во второй части приобретает чуждый ему сухой, мрачный характер, окрашен зловещим металлическим "лязганьем"112. В третьей части Мусоргский, отталкиваясь от многовековых традиций (и непосредственно – от листовского "Danse macabre"), вплел в тематический процесс начальный оборот секвенции "Dies irae". Однако он не соблазнился общеевропейской романтической моделью демонического скерцо. Напротив, "Трепак" – самая национально-русская из песен цикла, притом "утепленная" большим кодовым разделом Andante tranquillo, где атмосфера светлеет, возникает мягкий мотив в духе колыбельной. Финал воспевает не победу сил добра, радости, а торжество смерти.
Естественно, базой обобщения через жанр для "Трепака" стала народная плясовая, для "Полководца" – марш-гимн. Но обе эти картины развернуты до монументальных фресок, в "Трепаке" методом сквозного варьирования, в "Полководце" – прямой (сегодня мы сказали бы "монтажной") стыковкой вереницы контрастных эпизодов, живописующих яростное остервенение битвы (Vivo alla guerra, ми-бемоль минор), ночную тишину, прорезанную стонами раненых (Moderato assai), явление Смерти на боевом коне (Grave. Marziale, ре-бемоль мажор), самодовольно оглядывающей поле сражения (Andantino alla marcia), прежде чем запеть свою победную песню (Grave. Pomposo, ре минор). Темповые сдвиги примечательны, поскольку соответствуют образным, тональным и фактурно-гармоническим. Лишь воинственный гимн тонально устойчив, несмотря на обильное колорирование (аккорды низкой II ступени, альтерированные IV, VI) 113. О причинах выбора знаменитого польского революционного гимна "С дымом пожаров" немало дискутировали; предполагают, что композитора побудила к этому разразившаяся в год созидания "Полководца" (1877) кровопролитная война с турками за освобождение Болгарии, где погибли тысячи русских солдат, война, подогревшая общеславянские симпатии. Вероятнее всего, Мусоргского привлекли энергия и пафос мелодии, которые он добавочно активизировал пунктирным ритмом, скачками-возгласами. "Полководец" драматически необыкновенно эффектен, полон блестящих звукокрасочных находок, однако по изумительной тонкости мотивной работы, семантической нагрузке мельчайших клеток ткани его, думается, превосходит "Трепак".
Уже начальный трехтакт содержит два семантически важных элемента: "пустынные", бестерцовые созвучия (ими же окончится кода) – образ безлюдья, зимних полян, и басовую попевку – намек, вестник темы "Dies irae"; далее постепенно кристаллизуются интонация-зерно "Трепака" и назойливый плясовой ритм. Деление на рассказ и собственно песнь Смерти, в отличие от "Серенады" и "Полководца", здесь отсутствует, поскольку вступлением подготовлен основной тематизм четырех вариаций, свободно преломляющих принцип вариаций на сопрано-ostinato. За динамической вершиной (третья вариация – вихри, свист метели) следует спад. Замерзающему пьяному мужичку грезится лето, солнечная нива, и потому музыкальный материал отчасти обновлен, но ласковый напев то и дело перебивают вторжения концовки вступления, ее жестковатого ритма, хроматически сползающих диссонантных аккордов, темп конвульсивно ускоряется. В сущности, это драматургически самостоятельный раздел, значимость которого много выше обычной синтетической коды-репризы и даже коды, вносящей некие новые интонации.
Во второй половине 70-х годов возникло еще несколько камерных вокальных произведений, но они, за исключением "Песни Мефистофеля в погребке Ауэрбаха о блохе" (1879), не относятся к ярчайшим завоеваниям композитора. Написанные незадолго до "Полководца", весной 1877, четыре из пяти песен на слова А. К. Толстого ("Горними тихо летела душа небесами", "Спесь", "Ой честь ли то молодцу лен прясти", "Рассевается, расступается"; "Не Божиим громом ударило" – 1879), по мнению исследовательницы, "как отдаленное эхо… обращают нас назад, к народным лирико-эпическим образам кольцовских песен" 60–х годов (52, 5), иначе говоря, стилю "Пирушки", "Много есть у меня теремов и садов". Известный "возврат", пожалуй, действительно налицо, и обусловлен он стилизованными под старинную народную лексику и поэтику текстами, хотя это возврат на другом витке спирали, обогащенный ладотональными и гармоническими приобретениями композитора: частые однотерцовые сопоставления смежных полутактов, соседних аккордов си минор и си-бемоль минор в рамках ре минора ("Не Божиим громом"), мажоро-минорные переливы, щедрое употребление IV, VI, III и VII низких рядом с натуральными ("Горними тихо…"). Мелос напитан характерными для фольклора кварто-квинтовыми и секстовыми оборотами, вольными заносами на октаву вверх, причем размер и синтаксис строго повинуются асимметрии стиха, отсюда смены метров 6/4, 9/4, 5/4, реже 4/4.
Быть может, Мусоргского привлек опыт омузыкаливания чужого, мастерски архаизированного слова, который мог ему пригодиться в "Хованщине"114. Вполне вероятно также предположение М. Рахмановой, что данный цикл был своего рода памятником недавно скончавшемуся поэту.
Задуманная летом 1874 года, утомительного, переполненного потрясениями, веселая малороссийская комедия сулила отдых нервам, эмоциональную разрядку, некое бегство из мрака "Хованщины", "Забытого", романсов цикла "Без солнца".
Мусоргский писал: «"Хованщина" явится (буде суждено) попозже, а раньше представится комическая опера "Сорочинская ярмарка", по Гоголю. Это хорошо как экономия творческих сил. Два пудовика: "Борис" и "Хованщина" рядом могут придавить, а тут еще, т. е. в комической опере, та существенная польза, что характеры и обстановка обусловлены иною местностью, иным историческим бытом и новою для меня народностью. Матерьялы украинского напева… накопились в изрядном количестве» 115.
Быстро реализовать идею не удалось, и вскоре композитор ее бросил. Довод – "невозможность великоруссу прикинуться малоруссом, и, стало быть, невозможность овладеть малорусским речитативом… В бытовой опере к речитативу следует относиться еще строже, чем в исторической…"116. Однако год спустя написана картина ярмарки, весной 1877 года – сценарный план, летом почти все второе действие, коллегами жестоко раскритикованное. Стасов считал "Сорочинскую" пустой затеей, вздорной помехой "Хованщине", говаривал, что и возникла она преимущественно в угоду милому "дедушке" О. А. Петрову, украинцу и пламенному малороссофилу. Поразмыслив: "Не может быть, чтобы я был кругом неправ в моих стремлениях, не может быть"117, – Мусоргский решает продолжать работу, хотя надежда "сэкономить" силы была напрасной: фактически ни сил, ни времени не хватало на "Хованщину", и "Сорочинская" сочинялась урывками. Отсюда ее фрагментарность, хаотичность эскизов. Для первого действия остались незаписанными намеченные планом сцены Хиври с Черевиком и Паробка с Цыганом, для второго – рассказ Кума о Красной свитке и заключительная Grande scene comique, для третьего – готовы лишь думки Паробка и Параси, Гопак веселых паробков.
Тем не менее сохранившееся так подкупало яркостью и свежестью, что в разные годы к нему обращались многие. Сначала Лядов по предложению Римского-Корсакова охотно взялся редактировать рукописи, но, ограничившись инструментовкой пяти номеров, охладел ко столь сложному, хлопотливому делу. Потом Каратыгин предпринял серьезнейшее исследование и сбор всех автографов, найдя ранее неизвестные или утерянные (в том числе – сценарий оперы!), что дало ему возможность организовать ряд домашних и даже публичных показов нескольких сцен первого и второго актов в Петрограде (1911). Успех этих показов побудил московский Свободный театр поставить экспериментальный спектакль в жанре полуоперетты, к которому Ю. Сахновский скомпилировал музыку из обработок Лядова, Каратыгина и корсаковской редакции "Ночи на Лысой горе", добавив собственные связующие куски (премьера – 1913). Восьмидесятилетний Кюи сочинил свою, довольно вялую и эклектичную оперную версию (Театp музыкальной драмы, 1917), Н. Черепнин – другую (Париж, 1923). Единственным же академически корректным, верным автографам является труд В. Шебалина, где с большим тактом и чувством стиля заполнены лакуны музыки и текста либретто118.
Главное новаторское завоевание "Сорочинской" – абсолютно естественное слияние слова, колоритной украинской лексики и музыкальной ритмоинтонации. Конечно, руководил композитором боготворимый писатель – "Гоголь и Гоголь и опять-таки Гоголь (сподручного нет)" 119, – как некогда "Борисом" руководил Пушкин, и все же достигнуть подобной естественности, особенно в декламационно-речитативных участках, было крайне трудно. Вспомним, что проблема малорусского речитатива чуть не отпугнула Мусоргского. С ней он блистательно справился, порою сжимая элементы чисто фольклорные, чисто песенные до зерен-молекул, пронизывая ткань миниатюрными фольклорными цитатами или quasi-цитатами. Трудности конструирования формы, сцепления более развернутых песенных цитат удалось счастливо преодолеть благодаря редкому художественному инстинкту автора, сумевшего подобрать народные мелодии по мотивному сходству, либо по впечатляющему контрасту, если таковой требуется контрастом психологическим. «Украинцы и украинки признали характер "Сорочинской" вполне народным, да я и сам убедился в этом, проверив себя в украинских землях» , – сообщает Модест Петрович из гастрольного турне с Леоновой120.
Нагляднейший случай сцепления сходного – эпизод, когда Черевик и Кум, пьяненькие, впотьмах бредут домой (Andante lamentabile). Близость мелодий, попарно объединяемых в строфы, как и ее причины, – близость типажей, быть может, биографий, настроения, давно констатированы. Совпадают лад и октавный амбитус, способы кадансирования, опеваемые устои (пример 111 а, б).
Песня "Ой, чумак" станет лейтмотивом Черевика во втором действии, сцене с Хиврей, наряду с родственной, написанной в фольклорном стиле, на сей раз не цитатной (пример 112).
Случай контраста – чередование этих плавных, унылых реплик Черевика (ц. 15 – 16, 18 и т. д.) и сварливых окриков Хиври (ц. 17, 19 и др.). Впрочем, даже партия Хиври разъяренной имеет островки, синтезирующие интонации песни и бытовой скороговорки (пример 113).
Образец ансамбля согласия, основанного на имитационных подхватах народной попевки "Як пишов я до дивчины", – сценка Черевика и Паробка (ц. 47 – 50); Паробок мигом подлаживается, вторит чаемому тестю (пример 114).
Нигде ранее Мусоргский так "густо" и обильно не пользовался фольклором, но и повесть – самая фольклорная среди "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Подчеркнуто фольклорны, восходят традициям народного украинского театра, балагана, вертепа герои и ситуации (сварливая жена и ленивый, неповоротливый муж, молодящаяся старуха и карикатурная фигура лица духовного сословия, хитрый цыган), эпиграфы цитируют народные песни и сказки, популярные малороссийские комедии. Стремление следовать Гоголю, как можно лучше воспроизвести локальный колорит обусловили отказ от свойственного композитору метода сочинения оригинальных мелодий к народным текстам, активного переосмысления подлинников. Он удивительно хорошо ощутил святая святых гоголевской манеры: балансирование между серьезным и смешным, всплески авторского поэтического пафоса, лукавую улыбку, спрятанную за сентиментальностью, напускной серьезностью тона.
Оперная специфика предопределила сравнительно больший удельный вес лирики и романтики, что было и остается законной привилегией музыкального искусства. Так, в повести, кроме реплики Цыгана "О чем загорюнился, Грыцько?", нет материала для трогательно печальной Думки Паробка, пленительная мелодия которой вобрала характерные признаки украинской думы – узорчатость, прихотливую ритмику, фригийский лад. Лиризирован и характер Параси (дуэттино с Паробком начала первого действия); гротескный образ Хиври в сцене ожидания Поповича несколько очищен, облагорожен красивыми народными песнями. Вовсе нет у Гоголя намеков на интермедию "Сонного видения", однако косвенно она может быть оправдана демонической фантастикой прочих гоголевских повестей. Кстати, композитор, видимо, довольно долго колебался по поводу этой интермедии (сценарием не предусмотренной): «Скажите мне, что я буду делать с моими чертями в "Сорочинской", – во что облечь их и, вообще, как справиться с их наружностью?.. Что могло присниться в сонном видении пьяному паробку?» 121 Фантастика, хотя не "черная", а светлая, хрупкая была распространенным атрибутом русских опер XIX века, особенно 70 – 80-х годов, написанных на сюжеты Гоголя. И не с фантастикой связаны интереснейшие открытия "Сорочинской", но с юмором, подсвеченным теплой лирикой, с пародией и сатирой. Щедрый талант Мусоргского-юмориста здесь как бы обрел второе дыхание.
Обиженный резкой критикой коллег, Модест Петрович не без запальчивости говорит: «"Сорочинская" не буффонада, а настоящая комическая опера на почве русской музыки и притом, по нумерации, первая» 122. Первая? Нельзя представить, чтобы ему не были знакомы "Кузнец Вакула" Чайковского, давние традиции комической оперы в России. Вероятно, он имеет в виду некое оскудение юмора, вытеснение коренных примет жанра, необходимость возродить его современными ресурсами, сделав комическую оперу полностью независимой от западноевропейских моделей (на которые в той или иной мере ориентировались композиторы XVIII – начала XIX века) и от "буффонады" – ведь понятие "буфф» для Мусоргского почти равноценно "способу легкого сочинительства". Формулировка "на почве русской музыки" свидетельствует о сознательном или бессознательном отождествлении двух национальных "почв", обоснованном, поскольку речь идет о культурах, чьи истоки едины, а развитие протекало в постоянном контакте, взаимообмене. Как известно, среди авторов старых русских комических опер были выходцы с Украины, малороссийские песни некогда публиковались наряду с русскими, популярнейшие десятилетиями перекочевывали из сборника в сборник, из оперы в оперу. Мусоргский взял несколько таких песен-долгожителей, в том числе опубликованных еще Трутовским. Скажем, "Ой, коли я Прудеуса" звучала в водевиле Кавоса – Шаховского "Казак-стихотворец" (1812). Длинную биографию имела "На бережку у ставка" – ее аранжировал Козловский, писавший музыку к комическим операм французского образца, а Гулак-Артемовский использовал в "Украинской свадьбе" (поставлена в Петербурге, 1851); текст песни "Зелененький барвиночку" приведен в повести Гоголя. Узнаваемость мелодий явно привлекала Мусоргского, но одновременно подразумевала и поиск новой, не совсем обычной для него драматургии, методов формообразования.
Доминируют в "Сорочинской" построения краткие, в крупном плане нередко рондальные. Например, в картине ярмарки роль эпизодов выполняют маленькое ариозо Параси, рассказ Цыгана о сатанинском проклятии и накладываемое на продолжение рассказа любовное дуэттино юной пары, а среднее проведение рефрена функционально замещается игровым девичьим хором. Свободное рондо – сцена Черевика и Хиври во втором действии, черты рондальности ее и ансамбля Хиври с Поповичем укрепляет инструментальный лейтмотив влюбленной Хиври.
Принципиально новы структура и материал оркестрового Вступления. Это не интонационный "концентрат" линии народной драмы, как в "Борисе", не символ-идеал, как в "Хованщине", а интродукция, которая, готовя атмосферу действия, рисует пейзаж (гибкая фраза, сдвигаемая по самым солнечным тональностям), негу летнего дня и одновременно экспонирует две будущие вокальные темы – Парасиного ариозо "Ах, тятя, что ж это за ленты" и игрового девичьего хора "Ой вы, молодцы". Вступление attacca переходит в картину ярмарки через упругий мотив123, разрабатываемый возгласами торговцев, перекличками хоровых групп, каждой со своими ритмоинтонационными вариантами.
Приостановил ярмарочную суету Цыган, кого Мусоргский недаром окрестил "заведующим комедией". Солидная, неторопливая речь Цыгана (подобно большинству других партий) напевна, лишь слова "Там поселился Красная свитка!" выделены сползающими хроматизмами, цепочкой мажорных и увеличенных аккордов, грозным скачком на нону вниз (пример 115).
Оборот этот отныне сопутствует упоминаниям о таинственной Красной свитке и часто звучит во втором акте у Черевика, Кума, толпы гостей, взволнованных жуткими слухами. В первом акте юмор, исподволь окрашивая все сцены, понемногу набирал силу, восторженное ариозо Параси "Ах, тятя…" забавно комментирует невозмутимо спокойная, прозаическая реплика отца "А вот продам пшеницу да кобылу", если комедийный эффект заложен в контрапункте любовного дуэттино и мнимосерьезного, мнимострашного повествования Цыгана, коротеньком ансамбле согласия Черевика с Паробком, то еще забавнее сцена Черевика и Кума: уныние приятелей, блуждающих в темноте, внезапный переход к бурной радости (наконец-то выбралась на дорогу!), развеселой, залихватской песне "Ду-ду, рудуду"124. Средоточие юмора, богатого всевозможными гранями, ступенчато нагнетаемого, – второй акт.
Вот Хивря, занятая стряпней, мечтает о "таком миленьком, таком беленьком" Поповиче, с ненавистью оглядывая спящего супруга и остервенело набрасываясь на него, едва он проснулся. Контрастны не только меланхолические ответы Черевика, свирепые вопли Хиври, но и ласковый инструментальный лейтмотив ее мечтаний, что сразу выдает двуличность старой мегеры, которая не утратила надежды казаться молодой и прелестной. Добродушный Черевик пробует помириться, заигрывает (бойкая простонародная "А кому изготовляешь добреньки галушки…", ц, 24 – 25, 27 – 28), Хивре не терпится выгнать постылого мужа вон из хаты. Наедине она томно репетирует встречу дорогого гостя, охорашиваясь, запевает "Ой ты, дивчина, горда да пышна", а услыхав во дворе голос Черевика, его любимую чумацкую, свирепеет вновь – перебивка действия, остроумный драматургический прием, так как необратимое перевоплощение было бы менее убедительным. Лишь когда супруг окончательно изгнан, перед нами надолго останется другая героиня: опечаленная ожиданием (грустная "Утоптала стеженьку"), удалая, решающая мстить поклоннику, если он изменил (лихие куплеты о Брудеусе), полная мягкой покорности с предметом своей страсти. Красивые народные песни в устах Хиври "диссонируют" основной, негативной ее характеристике, во внутреннем диссонансе и скрыт комедийный подтекст этой "песенной сюиты".
Явление галантного кавалера, ненароком свалившегося в крапиву, вносит комизм открытый, прямой. Образ Поповича – пародия, убийственно меткая сатира. Мусоргский не скупится на выдумку, наделяя его ярко индивидуализированной вокальной партией, где витиеватые фиоритуры в церковном духе, церковного типа псалмодия великолепно соответствуют высокопарности слога, нарочито не соответствуя ни смыслу речей (например, деловому реестру добра, полученного отцом-батюшкой), ни поведению героя, пикантной ситуации. К аналогичным средствам композитор прибегал и раньше, скажем, в романсе "Семинарист'' (переклички с которым легко заметны – сравним рассуждение Поповича о сладостном волнении, испытанном им еще в бурсе и "намеднись за молебном… глас шестый" семинариста), однако не столь последовательно, на пространстве целой развернутой оперной сцены.
Аппетитно поедая лакомые блюда, Попович с галушкой в руке хочет обнять "наипревосходнейшую" Хавронью Никифоровну, та скромничает, жеманится, кокетливо звучит ее лейтмотив, прослаивающий всю сцену. Поцелуй… Громкий стук в ворота прервал идиллию, перепуганный кавалер твердит "Господи, помилуй, Господи, помилуй", Хивря лихорадочно ищет, куда бы его спрятать. Этот момент служит генеральной кульминацией комедийно-сатирической линии. Теперь юмор будто затаился вместе с Поповичем. Хивря храбро притворяется спокойной, Кум, Черевик и толпа гостей трусливо вслушиваются в шорохи, стараясь унять страх хоровой песней "Ду-ду, рудуду". В разгар веселья с печи что-то упало, аккорд – удар fortissimo (квинтсекстаккорд V низкой степени), общий ужас и растерянность, кое-как преодолеваемые; Черевик, осмелев, просит Кума поведать историю Красной свитки. Увы, автограф монолога Кума содержит лишь 12 тактов. Возможно, длинная история – короткой, в отличие от рассказа Цыгана, она не могла быть – затормозила бы пульс действия, и это смутило композитора.
Фрагментарность номеров третьего акта не позволяет исчерпывающе судить о логике замысла. Начало акта (согласно сценарному плану – ночь, переполох, Кум и Черевик бегут и обессиленно падают, их арестовывают, Паробок спасает), по-видимому, не было написано, сочинил его Шебалин, он и разбил акт на две картины, в конец первой поместив "Сонное видение".
Компоновка протяжной и скорой, задорной встречается как в украинском, так и в русском фольклоре, старинном и позднейшем, потому форма Думки Параси не противоречит народным традициям, но в этой Думке контраст обострен неким мелодраматизмом ариозного раздела ми-бемоль минор, который тотчас снимается, опровергается песней "Зелененький барвиночку": Парасина грусть неглубока, несерьезна, и мгновенный перелом внутри номера знаменует перелом действия к счастливой развязке.
Показателен выбор ритмов и тональностей, сравнительная скудость пластов минора. Финальный гопак "На бережку у ставка" закрепляет светлый соль мажор, образуя арку ко Вступлению, наметившему основные тональности оперы: соль мажор (дуэттино Параси и Паробка), ми мажор, ре мажор, ля мажор (сцена Хиври с Поповичем), фа-диез мажор (кода увертюры, хоры девушек "Ой вы, молодцы" и "Не стой, вербо, над водою"). Распространены ритмо-формулы с характерными для украинских танцев подскоками, притоптываниями, дроблением сильных долей:
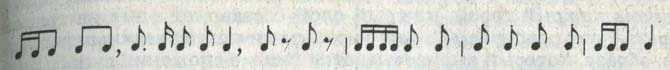
Господствуют метры 4/4 и 2/4, быстрые и умеренно быстрые темпы, квадратность, симметрия построений125. Иными словами, обновлен весь комплекс выразительных средств.
Еще весной и летом 1880 года Мусоргский неоднократно брался за "Сорочинскую", а в январе 1881 начал было оркестровать Думку Параси. Но катастрофическое состояние здоровья вынудило его уйти со службы 1 января 1880 года, и чтобы хоть как-то обеспечить материальное существование композитора, одна группа друзей по инициативе Т. Филиппова (в том числе Стасов, Балакирев, В. Жемчужников) договорились регулярно выплачивать денежную субсидию на окончание "Хованщины", вторая группа – "Сорочинской ярмарки". Друзья знали о его страшной нищете, знали о симптомах белой горячки, галлюцинациях и все-таки не уберегли от новой жестокой травмы, причиненной показом "Хованщины" перед "ареопагом Могучей кучки" 4 ноября. Очевидец вспоминает: "Жалко было смотреть, как присутствующие (особенно Кюи) приставали к нему с предложением различных урезок, изменений, сокращений и т. п. …А бедный скромный композитор молчит, соглашается, урезает…" (193, 588). Он и сам никогда не берег себя. Последние месяцы словно торопил собственную гибель беспорядочной жизнью, ночными бдениями в "Малом Ярославце"; аккомпанировал Д. М. Леоновой и воспитанникам ее вокальных курсов, много выступал в благотворительных концертах. На литературном вечере памяти Достоевского 4 февраля сымпровизировал похоронный звон, а 11-го потерял сознание, 12-го перенес три удара и 13-го помещен в Николаевский военный госпиталь. Там ему стало лучше, тогда, в первые дни марта, у кровати госпиталя Репин написал знаменитый портрет. Но внезапное обострение неизлечимой болезни вызвало полный паралич, и 16 марта Мусоргский умер.
6
"Хованщина" – кладезь гениальных находок, драматургических открытий, мелодий дивной красоты, а вместе с тем и "секретов", слабо поддающихся расшифровке.
Конфликт ее как бы децентрализован. Героев несколько, и у каждого своя фабульная линия, драма и гибель; гораздо резче, нежели в "Борисе", дифференцированы группы, слои народной массы – стрельцы, раскольники, пришлый московский люд, – причем каждый герой, каждый слой составляет одну из граней образа Руси, раздираемой религиозными и политическими распрями, образа, который вырисовывается лишь в сложении судеб. Да и не только Руси конца XVII века, – России грядущей. Если первые постановки не получили сколько-нибудь заметного резонанса, спектакль Мариинского театра (1911) произвел подлинный фурор, критики любых лагерей, прежде всего символисты, почувствовали близость коллизий "Хованщины" к мировосприятию и философским исканиям своего времени. Александр Блок, работавший над поэмой "Возмездие", услыхал в ней пророческое напоминание о потаенных, дремлющих до поры силах великой страны, призыв к подвигу самоотвержения, созвучие собственным раздумьям о трагическом противоречии мудрости, искушенности России и ее "детской, короткой памяти".
Опера-хроника, опера-эпопея, "Хованщина" не укладывается в русло русской эпической оперы ни по градусу драматической конфликтности, ни по остроте столкновений борющихся группировок, ни по эмоциональному накалу переживаний действующих лиц126.
Русь эпохи "Хованщины" вся охвачена раздорами, очагом раздора оказывается и церковь, мира нет ни на троне, ни среди боярской верхушки, ни среди низов. К неограниченной власти рвется стрелецкий глава Иван Хованский, колебания терзают фаворита Софьи Голицына, коварно расчищает себе дорогу новый приближенный царевны Шакловитый; стрельцы гордятся доблестной, "во имя Божье" охраной "царей младых от бояр спесивых", истребляя кого вздумается Хованскому. Пришлые внимают им со страхом и недоумением. Далеки заговорам, разгулу убийств лишь раскольники, черноризцы, поглощенные диспутом с никонианами, хотя их вождь Досифей участвует в тайном "совете князей". Мотив вражды проецируется в разных ситуациях: яростно спорят, оскорбляют друг друга князья, собравшись на совет, с лютой ненавистью проклинает Марфу Сусанна, старик Хованский готов без церемоний отнять приглянувшуюся ему "лютерку" Эмму у Андрея, Андрей – заколоть постылую раскольницу; блестящий "европеец" Голицын распоряжается утопить колдунью на болоте, "чтобы сплетни не вышло"… (Вариант комедийно-бытовой – перебранка стрельчих с мужьями, пропойцами окаянными.) Напряженные сцены-поединки обычно есть атрибут оперы-драмы, а отнюдь не оперы эпической.
Населяют "Хованщину" характеры на редкость колоритные и крупные, иногда колоритные как раз своими низменными качествами – тщеславием и вечной непоследовательностью (Голицын), трусливым лукавством (Подьячий), тупым высокомерием (Хованский). Самые крупные – это, конечно, Досифей и Марфа. В отличие к других главных персонажей, Марфа не имеет какого-либо реального исторического прототипа, она полностью создана воображением Мусоргского, именно о ней он в письмах говорит охотнее и увлеченнее всего ("излюбленная нами раскольница"), ее сцены среди первых музыкальных набросков оперы: "любовное отпевание", гаданье Голицыну, песня "Исходила младешенька", эпизод с Сусанной. Досифей – образ собирательный, основным его прототипом явился Аввакум127, кстати, одна из исторических фигур, особенно почитаемых народовольцами. Но и этот, наиболее мудрый, человечный, благородно-бескорыстный персонаж, олицетворяющий стойкое противление духовному насилию, не сделан центральным героем. И передовые историки 60-х годов, и Достоевский видели в расколе до фанатизма смелое выражение народного недовольства, протеста ("Сгорим, а не дадимся!"), историки "государственного" направления – опасную угрозу самодержавию, славянофилы – измену православию. Мусоргский не идеализирует раскол XVII столетия, он знает и показывает, что путь Досифея гибелен.
Советские исследователи долго бились над вопросом, где в "Хованщине" положительный образ, считать ли таковым Пришлый люд или Петра и петровцев, что символизирует "Рассвет на Москве-реке"? Сама постановка вопросов и "ключи", которыми хотели отомкнуть концепцию оперы, были примитивными, лобовыми и приводили к вульгаризованным ответам.
Резко критическая оценка Мусоргскоим петровских реформ нам известна. И не он, а Римский-Корсаков закончил второй акт (после слов Шакловитого «обозвал "хованщиной" и велел сыскать») фразой темы "Рассвета", дав некий повод связывать "Рассвет" с образом Петра. Единственный авторский аргумент, быть может, случайный – беглая реминисценция мотива "Рассвета", когда Марфа рассказывает о ее спасении петровцами. Нет, Мусоргский явно симпатизировал жертвенной отваге раскольников, Асафьев даже упрекнул его в "интеллигентской слабости", "сочувствии героической морали гибнущих" (8, 168).
Что касается Пришлых, то им композитор отвел роль довольно скромную. Сперва веселые, беспечные (песня "Жила кума"), потом испуганные и опечаленные, везде они наблюдатели, везде не только действуют, сколько любопытствуют. Характерны авторские ремарки к началу картины стрелецкой казни: "пришлый люд московский толпится на сцене, рассматривая наружный вид церкви"; рейтары провожают в ссылку колымагу Голицына: "с любопытвом всматриваются в поезд". Энергия просыпается в них лишь в эпизоде разрушения будки Подьячего; поиздевавшись над жадным грамотеем, вынудив прочесть таинственный "надпис", они оставляют его в покое. И грустный их хор a cappella – сочувственная эмоциональная реакция наблюдателей, а не активных участников происходящего – функционально в какой-то мере подобен авторскому голосу (пример 104).
Монографии Э. Фрид (1947) и С. Шлифштейна (1975) расчистили накипь ошибочных, вульгарно-тенденциозных истолкований "Хованщины", увы, распространенных на подмостках советских театров. Они доказали, что "Рассвет на Москве-реке" есть высоко эпическое обобщение, слово любви автора к Родине и народу, идеал, противостоящий мраку и жестокостям бытия. Что ни раскольников, ни стрельцов, ни пришлых в отдельности Мусоргский не рассматривал как главных, полномочных представителей народа, носителей светлого будущего страны; что, если бы композитор и впрямь вдруг решил возложить эту почетную миссию на петровцев, он не ограничился бы сухой, автоматизированной музыкой преображенского военного марша…
Загадки "Хованщины" коренятся прежде всего в необычности ее драматургии, сочетающей признаки трагедии, эпопеи, хроники и лирико-психологической драмы. "Монтажная" внезапность стыковки эпизодов, контрастные "наплывы" – все это было абсолютно незнакомо опере XIX века, да и оперное искусство XX века не сразу освоило их, переняв у кинематографа. В сфере драматургической Мусоргский, пожалуй, чуть ли не больше обгонял время, чем в языковой, и, естественно, стыки могли показаться Корсакову варварскими, нелогичными, требующими сглаживания. Между тем, перед нами прием, сознательно используемый ради стереофонической многоплановости действия. Так, в первом акте в течение диктовки доноса за сценой поочередно слышатся песня пришлых о куме, удалой стрелецкий хор "Гой вы, люди ратные" и снова плясовая песня пришлых; во втором акте (согласно ремарке "за решеткою сада – в виду зрителя") торжественно проходят чернорясцы, распевая "Посрамихом, пререкохом"; рогу Андрея Хованского, пытающегося созвать стрельцов, откликаются гулкие, грозные удары соборного колокола; бодрые закулисные фанфары потешных дважды прорезают вой стрельчих и молитву осужденных; такие же фанфары несколько раз вторгнутся в пятом акте, чтобы стать контрапунктом хору самосожжения. Перечисленные параллельные "монтажные ряды" и наплывы создают эффект расширения пространственной перспективы, обостряют драматизм ситуаций.
Деталей чисто иллюстративно-изобразительного порядка в "Хованщине" найти нельзя, дивный музыкальный пейзаж оркестрового вступления внутренне тоже многослоен. Вопреки традиции построенный не на "обзоре" основного тематизма, он включает сквозные знаки-символы: колокольный звон, который получает еще более ответственную и разнообразную нагрузку, нежели в "Борисе Годунове", эволюционируя от светлого церковного благовеста через зловещий тритоновый набат колокола Ивана Великого (первый акт, ц. 136 – 138) до траурного остинато стрелецкой казни; утренняя перекличка сторожевых кремлевских труб далее становится сигналом тревоги, драматургического перелома.
Внешнюю рассредоточенность композиции помогают скрепить общий песенный фундамент произведения, сходные приемы развития мелоса. Народная песня проникает как в виде подлинников – "Исходила младешенька" Марфы, хоры сенных девушек Хованского "Возле речки на лужочке", "Поздно вечером сидела", мелодия песни "Жила кума", – так и опосредованно, благодаря народному принципу парной периодичности, о котором уже говорилось по ходу анализа камерных вокальных опусов конца 60-х годов. Партия Марфы почти сплошь основана на точных или варьированных повторах двутактов, реже однотактов или трехтактов. Аналогично строятся хоры "Ох ты, родная матушка-Русь", эпизод столкновения пришлых с Подьячим ("Жил да был Подьячий"), гимн чернорясцев "Победихом", стрелецкая "Гой вы, люди ратные", партия старика Хованского, даже ряд фрагментов партии европеизированного "хамелеона" Голицына: бравурные реплики "Скачут послы с казною княженецкой", "Когда в главе полков, испытанных в боях", вопль отчаяния "Вот в чем решенье судьбы неумолимой…" и т. д. 128.
Гораздо независимее от этих структурных закономерностей партия Досифея. Почему? Во-первых, в ней господствует свободная декламационность и собственно песенно сравнительно немногое, например, начало монолога "Приспело время мрака и гибели…" (заметим попутно, что этот экспозиционный монолог вводит семантически важнейшую тональность трагедии ми-бемоль минор), отдельные островки монолога пятого акта ("Здесь, на этом месте святе…"). Во-вторых, главным ориентиром восприятия национальной природы его образа служит гармония, характерные для русской церковной музыки плагальные и терцовые обороты, аккордовые последования типа I – VII – III – V нат. – I, I – IV –VII – V нат., VI низкая – IV – I.
Марфа щедро наделена мелодиями поразительной красоты, то жгуче-страстными, то трепетно-скорбными, но всегда преисполненными горделивой силы. Верная помощница и друг Досифея (с ней он неизменно мягок и сердечен), Марфа движима не слепым религиозным фанатизмом, а неукротимой, всепоглощающей, греховной для аскетической раскольничьей морали любовью, оскорбленным, растоптанным чувством, которое и ведет ее на костер. Стасов хотел сделать Марфу любовницей Голицына (влюбленной и в Андрея!), хотел, чтобы она маялась в сознании своей греховности, чтобы раскольники клеймили ее позором. Мусоргский уперся: его героиня должна быть чистой. Помимо того, Марфа – "колдунья", ясновидящая. Тема пророчества Голицыну будет в опере сквозной темой рока, интонации которой исподволь формируются уже в первом акте (ц. 77), потом, намеком на судьбу стрельцов – после хора "Батя, батя, выйди к нам", достигнув трагедийной вершины во вступлении к картине стрелецкой казни, и наконец, отголоском – у Андрея (ц. 475: "Ты силой духа тьмы и чарами ужасными меня приворожила" – пример 105)129.
Цельность натуры и огромное богатство душевной жизни обусловили особую архитектонику музыкальной характеристики Марфы: сочетание единства и контрастности, сложение из многих мелодий, песенных ариозных и полуречитативных, причем они вариантно, а иногда и точно повторяются. Скажем, экспозиция ее образа в первом акте (ансамбль с Андреем и Эммой) "окольцована" темой горькой, саркастической укоризны, середина – мотив "нарушенной присяги"; от них прорастет тема горестного признания Сусанне в третьем акте, она же – тема исповеди Досифею: "Страшная пытка любовь моя" (пример 106 а, б, в)130.
Восторженная реплика из второй картины четвертого акта "Теперь приспело время принять венец славы вечныя!" содержит интонации "любовного отпевания" пятого акта, где опять появляется знакомый, ранее использованный тематизм: "Алилуйя" есть реприза-вариант обращений к Сусанне и Досифею (пример 107).
Существенный штрих, рисующий Марфу глубоко искренней русской женщиной, – песня "Исходила младешенька", на глинкинский манер развиваемая вереницей фактурных вариаций, а героиней непоколебимо властной, строгой – ариозо "Видно, ты не чуял, княже". В обоих случаях гармоническое оформление экономно и просто, контрастируя остальной ее партии, гармоническому языку которой присущи сложность, даже изысканность, обилие альтераций, что усугубляет внутреннюю напряженность ее высказываний. Марфа – небывалый дотоле в оперной литературе образ, думается, непревзойденный и по наши дни.
Музыкально выпуклы, рельефны почти все персонажи "Хованщины"; бледнее других лишь "вставные" Эмма и Пастор, а также Андрей Хованский, чья роль давала мало стимулов для сколько-нибудь яркой индивидуализации. Например, мастерски, до мимики, жеста, семенящей походки, склонности к выспренним, книжным оборотам речи (порой естественно вызывающим интонации церковные), вылеплена характеристика Подьячего, одновременно трусливого и нагловатого.
Парадокс, ставивший в тупик музыковедов и режиссеров, – ария Шакловитого "Спит стрелецкое гнездо", интонационный строй которой определенно напоминает знаменитую арию Сусанина (пример 108).
Как объяснить превращение циничного интригана в благородного мыслителя, скорбящего о бедствиях многострадальной родины? 131 Ныне уже замечено, что устами Шакловитого тут говорит автор; отсюда, вероятно, и моменты общности с хором пришлых "Ох ты, родная матушка Русь" (квартовый ход с квинты на тонику, опевание натуральной VII ступени, ниспадающий ко II ступени лада контур мелодической фразы). Тем самым Мусоргский предвосхитил популярный в музыкальном и драматическом театре XX столетия прием введения фигуры комментатора – Поэта, Чтеца, Повествователя, т. е. фигур, "материализующих" авторский голос, авторскую оценку событий.
Старый князь Хованский, казалось бы, замкнутый в своей самодовольной надменности, претерпевает метаморфозу вместе с образом стрельцов. Источник его лейтмотива – стрелецкая "Гой вы, люди ратные". И когда, выплеснув буйную энергию (хор "Ах, не было печали", забубенная песня про сплетню), стрельцы узнают о нависшей над ними беде, когда на их жалобный зов "Батя, Батя, выйди к нам", на клич "Веди нас в бой!" он отвечает отказом, просит идти по домам – торжественно-повелительный лейтмотив замедлен, перенесен в ми-бемоль минор, – этим предсказана судьба, уготованная и стрелецкой вольнице, и самому всемогущему Бате. Снова зазвучит лейтмотив, окрашенный той же "темной" тональностью, в первой картине четвертого акта, при донесении клеврета о грозящей Хованскому опасности, а обретая долю былой повелительности, но несколько искаженный, словно ленивый, расслабленный – когда Шакловитый, незадолго до убийства, от имени царевны пригласит его на "совет великий". Напомнит о катастрофе Хованского (и хованщины) гибрид лейтмотива и стрелецкой песни в картине шествия на казнь – оркестровое остинато шествия осужденных, аккомпанемент драматического диалога Марфы и Андрея, истошного плача стрельчих.
Раскольники выступают монолитной массой, некой "наддейственностью" они изолированы от прочих пластов. Мусоргский не связал их так тесно с партией Досифея, как связаны стрельцы и Хованский: вождь и вдохновитель раскольников, Досифей – личность незаурядная, политик, человек, которому открыты "земные" страсти, способный и к кроткой сдержанности, и к гневу, и к ласке, доброте. Раскольничьи песнопения вносят круг интонаций самобытнейших, терпких, аскетически суровых. Композитор разыскивал подлинники, но в этих хорах доверился своей интуиции, "живым" источникам, а не образцам знаменного распева, опубликованным Д. Разумовским; он нашел свободный, необычайно убедительный синтез унисонности, народной подголосочности и кварто-квинтовой фактуры (кстати, встречавшейся в песнопения эпохи Аввакума), древних натуральных ладов с вкраплениями хроматизма (примеры 109 а, 119 б, в).
Последний хор – "второй взвод" мелодии старообрядческого духовного стиха, записанного Л. Кармалиной в одной из русских деревень Эриванской губернии. «Столько в ней страды, столько безотговорочной готовности на все невзгодное, что без малейшего страха я дам ее унисоном в конце "Хованщины", в сцене самосожигания»132 (пример 110).
Итак, драматургия "Хованщины" многослойна, полифонична и в то же время музыка обладает легко распознаваемым стилевым единством. Чудо гения, тайна, лишь отчасти объяснимая единой национальной почвенностью, тождеством структурных приемов (парная периодичность) и вариантно-вариационного принципа, заявленного уже оркестровым вступлением.
Здесь, при песенной непрерывности дыхания, вольно варьируется состав и протяженность темы, фактура и тональность: от ми мажора, через светоносный ре мажор, романтико-экстатический фа-диез мажор и мечтательно-приподнятый соль-диез мажор – до ля мажора в начале действия (по Корсакову, к мнению которого в данном случае стоит прислушаться, так как в "Рассвете на Москве-реке" Мусоргский не пренебрегает тональной краской – розового, весеннего, цвета утренней зари).
Важный фактор преодоления некой композиционной рассредоточенности "Хованщины" – арки-репризы, образующие большие и малые рондальные построения. Рондальны, например, сцена диктовки доноса Подьячему, выходы Хованского в первом акте. О моментах репризности партии Марфы упоминалось ранее; повторяется, перейдя из второго акта в начало третьего, хор "Победихом, посрамихом", основа хора пятого действия "Враг человеков" – напев чернорясцев "Боже, отжени словеса лукавствия" из первого. Итогом было рождение оперы стилистически и конструктивно уникальнейшей: динамика в статике, статика в динамике.
Как известно, Мусоргский не успел инструментовать "Хованщину" (он лишь оркестровал песню Марфы, хор стрельцов и арию Шакловитого). Не вполне выстроены были некоторые заключительные сцены133, не найден автограф арии Марфы "Слышал ли ты", знакомый нам по корсаковской редакции, хор самосожжения остался в виде двух куплетов, дописал его Римский-Корсаков134. Если отсутствие партитуры делало необходимым участие редактора-оркестровщика, то нехватка последних страниц клавираусцуга открывала дорогу прямому смещению идейно-смысловых акцентов. Советские театры 30 – 40-х годов, да и 50-х годов усердно старались подчеркнуть "прогрессивную" роль Петра и петровцев, а Посифея – дискредитировать (например, в спектакле Большого театра 1950 года Досифей трусливо убегал из охваченного пламенем скита, раскольники кидались навстречу спасителям-петровцам). Шостакович, создавая свою редакцию партитуры для фильма-оперы (1959), надо полагать, невольно уступил тенденциям периода и добавил эпилог, где помимо Преображенского марша, введенного Корсаковым, звучит хор пришлых "Ох ты, родная матушка Русь" и музыка "Рассвета". Увы, такой эпилог вовсе противоречил авторской концепции. Сегодня огромная тяга к подлинному Мусоргскому требует расчистки любых насильственных, конъюнктурных толкований, и, возможно, оптимальным решением проблемы было бы оставить финал неприкосновенным, окончив двумя куплетами унисонного хора135.
Каждая опера Мусоргского в жанровом, языково-стилистическом и конструктивном отношении неповторима, хотя все они несут неизгладимую печать его индивидуальности и не могут не заключать в себе элементов общности. Этому, разумеется, немало содействовали камерные вокальные опусы, с разных сторон готовившие и "Бориса", и "Хованщину", и "Сорочинскую ярмарку" ("Ах ты, пьяная тетеря", например, как бы эскиз ситуации Хивря – Черевик).
При анализе отдельных произведений уже затрагивался вопрос о формировании неких семантически устойчивых интонаций-знаков. Таковы нисходящий фригийский тетрахорд, найденный еще в романсе "Листья шумели уныло", колокольные гармонии, злые "клевки" аккомпанемента в "Саламбо", "Борисе Годунове", балладе "Забытый" и т. д. Даже столь противоположные "Хованщина" и "Сорочинская" объединены тенденцией к песенности, "осмысленной/оправданной" мелодии; налицо и мелкие переклички – допустим, изображение испуганного Поповича, а также короткая тема, пронизывающая эпизод массовой паники второго акта, отдаленно сродни инструментальному лейтмотиву Подьячего. И даже в суховатой, "антипесенной" "Женитьбе" есть точки соприкосновения с лапидарно простой, фольклорной украинской комедией: остро характеристическая функция интервала ноны, там нередко вкрапленного в речитатив (восклицательные обороты Подколесина – ц. 9, 12, 93, возмущение Феклы – ц. 30, 72, 73, Кочкарев – ц. 56, 87), тут – ядро лейтмотива Красной свитки. "Картинки с выставки" впитывают образность народно-песенных хоров "Бориса" и "Хованщины", отголоски "Ночи на Лысой горе" и "Детской"…
Ликование жизни, вершины поэзии и мрачные бездны отчаяния, веселый смех и горький сарказм, милый лепет ребенка и бред мучимого совестью преступника, душевная красота убогих, гонимых и внутреннее убожество гордыни – все эти и многие другие полюсы бытия, нюансы человеческих чувств охватило творчество гениального композитора. Гигантский нравственный, духовно очищающий заряд его наследия сегодня особенно дорог и очевиден, особенно дороги уроки его ослепительно нового, в новизне своей любой деталью эмоционально и интеллектуально наполненного искусства.
"Никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и глубиной", – сказал Дебюсси в 1901 году. Художник-гуманист нашего времени, Шостакович, скромно говорил: "Я еще не написал ни одной строки, достойной Мусоргского" (303)
